Visual studies сосредоточены вокруг проблематики изображения и изобразительности, образа, восприятия и познания, взгляда и видения, видимости и невидимости, репрезентации, циркуляции визуальных артефактов в пространстве социума, власти и технологий. Здесь одинаково важны произведения искусства, реклама, комиксы, спутниковые снимки, медицинские изображения, взгляд арт-критика или тренд-аналитика, модные показы или Google Карты. Разнородность объектов visual studies соответствует методологическому разнообразию: от истории искусства до когнитивных наук. Предложенная подборка позволит узнать ключевых представителей и ключевые понятия этой дисциплины и показывает разные, порой диаметральные, способы смотреть на мир.
Как смотреть на мир: подборка изданий по Visual Studies
Материал подготовила Анастасия Тимофеенко

Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры
Генеалогия visual studies неоднородна: она складывается из разных традиций, дисциплин и географических точек. Важное место в ней занимает искусствознание: одни исследователи визуальности опирались на искусствоведческие труды XX века, другие активно с ними спорили. Антология «Мир образов» под редакцией профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Наталии Мазур представляет собой крупнейшее издание на русском языке, посвященное предыстории и истории европейских и англоамериканских visual studies. Главным фокусом в этой истории становятся трансформации искусствоведческой парадигмы в XX веке, когда за пределами консервативного академического искусствознания возникают новые способы говорить об искусстве и образах. Так авторы антологии обратились к методам других дисциплин: Юргис Балтрушайтис использовал физиогномику, а Ханс Бельтинг предложил антропологию образа. Ученые спорили с автономией искусства, как исследуя продукты массовой культуры, так и изучая искусство в контексте общественной жизни: Эрвин Панофский размышлял о стиле кино, Светлана Алперс посмотрела на голландское искусство сквозь современные ему географические карты. От гамбургской школы искусствознания начала XX века до современной нейроэстетики — антология предлагает спектр взглядов на искусство и массовую культуру, преодолевающих ограниченность классического искусствознания.
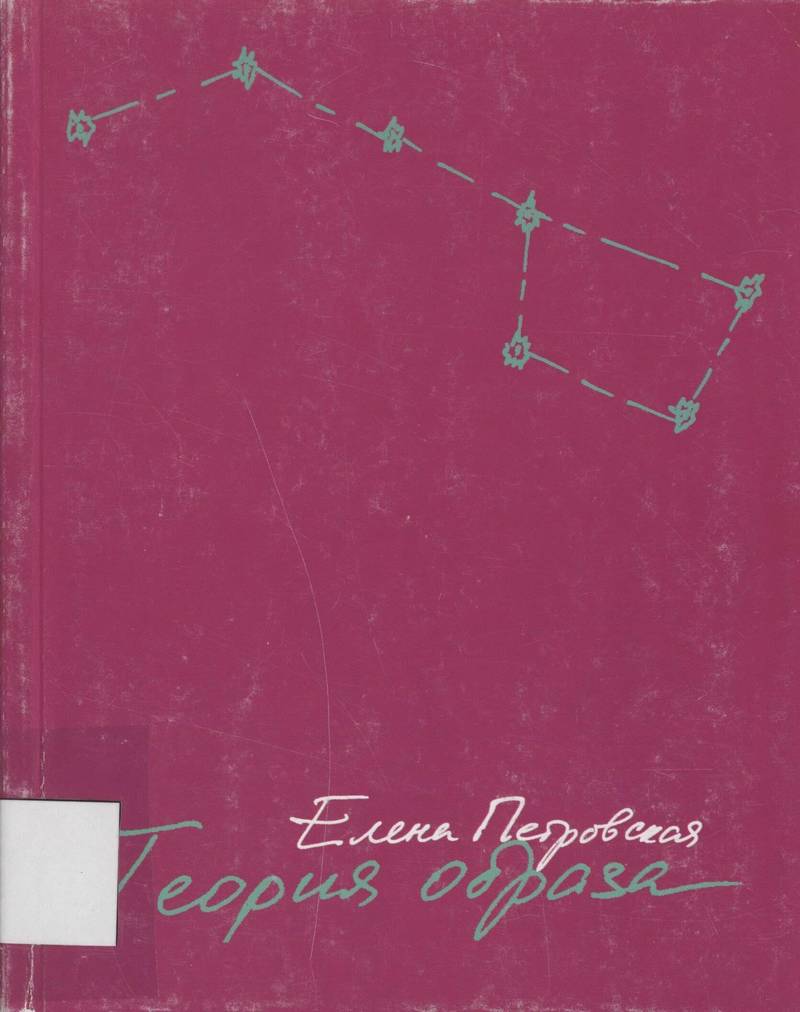
Елена Петровская. Теория образа
Внутри visual studies существует целое направление научной работы, посвященное теории образа (Image Studies, Bildwissenschaft). Дискуссии теоретиков образа сосредоточены вокруг вопросов: что такое образ, изображение и репрезентация? Что является условием создания образа, сводим ли он к своему материальному носителю? Каковы особенности его восприятия и воздействия? Следуя за вопросами об онтологии образа, философ и культуролог Елена Петровская в сборнике своих лекций обращается к важным для современных визуальных исследований подходам: от феноменологической линии в лице Мориса Мерло-Понти, Жан-Люка Мариона, Мари-Жозе Мондзен и Вилема Флюссера к философской деконструкции у Жака Деррида и Жан-Люка Нанси, семиологическому анализу Ролана Барта и Розалинды Краусс. Подходы, представленные читателю, трактуют образ на грани видимого/невидимого, присутствующего/отсутствующего. Образ десемиотизируется и описывается в пространстве неразличимости как недоступный к полному схватыванию и конечной интерпретации: например, для Мариона картина оказывается воплощением чистого восприятия или феноменологической редукции; Мондзен рассматривает икону как представляющую сферу невидимого (изображение Бога), а Барт говорит об аффективном воздействии образа, punctum’e, ускользающем от референции.

Dynamics and Performativity of Imagination: The Image Between the Visible and the Invisible
Сборник под редакцией немецких историка культуры Бернда Хюппауфа и антрополога Кристофа Вульфа содержит статьи о воображении и его роли в восприятии и создании образов. Сборник состоит из пяти разделов и предлагает философский, антропологический, историко-культурный и даже нейрокогнитивный взгляд на воображение и воображаемое. В первой части исследуются отношения между воображением, фантазией и творчеством: от воображения как представления отсутствующего или особого доступа к миру до «конструктора» социальных порядков. Ключевой вопрос второго раздела: что значит видеть изображения? Так, воображение может их «оживлять» и анимировать, приоткрывать недоступное зрению. Третий раздел посвящен телесности, например, как тело, будучи «живым образом», оказывается частью социального воображаемого. Неопределенность и нечеткость образа есть тема четвертого раздела. Один из авторов, Готфрид Бём, представитель немецкой теории образа, пишет о неопределенности как об онтологическом качестве образа: она трактуется не как недостаток, но избыток представления и потенциал образа (иконическая потенциальность). Финальный раздел посвящен визуализации, например, научным изображениям, не столько репрезентирующим реальность, сколько формирующим наше представление о недоступных восприятию вещах.

Михаил Ямпольский. Изображение. Курс лекций
Отталкиваясь от единственного вопроса — «что такое изображение?» — теоретик искусства и культуры Михаил Ямпольский затрагивает десятки разнородных сюжетов из философии, психологии, антропологии и биологии: от диалогов Платона и экологических ниш в исследованиях немецкого биолога Якоба фон Икскюля до пейзажей Клода Лоррена и «Черного квадрата». Ставя перед собой задачу уйти от искусствоведческого дискурса, Ямпольский рассматривает изображение не в качестве представления или отображения чего-то, но как фундаментальный антропологический феномен. Изображение есть посредник между организмом и его средой, «основополагающий аспект всего живого», пишет Ямпольский. Проявляя разные пути сопряжения человека и мира, он рассуждает о роли зрения, появлении изобразительного пространства, о фоне и цвете, поверхности и форме, субъектности и идентичности, коммуникации, аффекте и многом другом.

W. J. T. Mitchell. What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images
Американский исследователь У. Дж. Т. Митчелл дает своей работе провокационное название: «Чего хотят изображения?». Нам привычно, что человек, производитель или потребитель изображений, чего-то хочет от «пассивных» визуальных артефактов. Как изображения могут чего-то хотеть? Могут ли образы, виновники идолопоклонства или иконоборчества, утверждать свои желания и властвовать над нами? Важно, что Митчелл говорит не о власти, но желании образов: так раскрывается и их магическая витальность, и присущие им недостаток или нехватка чего-то. В этом недостатке проявляются особенности наших отношений друг с другом и миром: образу трагедии и разрушения «не хватает» контробраза коммеморации и восстановления. Подобно людям, образы могут не знать, чего они хотят: эти лакуны становятся видимыми в диалоге со зрителем. Желание образа есть само вопрошание об этом желании. Здесь Митчелл, провозглашая пикториальный поворот (picture turn) вслед лингвистическому, говорит об ограниченности логоцентричных моделей для исследования визуальной культуры. «Картинки не хотят, чтобы их превращали в язык, — они хотят равных с ним прав», — пишет автор.
Перевод фрагмента первой главы, опубликованный в «Художественном журнале»

Thomas Nail. Theory of the Image
Витальность образа проявляется в подходе американского философа Томаса Нейла. Он описывает современную культуру как мир движущихся образов: пространство пронизано непрерывно циркулирующими, интерактивными изображениями. Динамика была присуща образам всегда, отмечает Нейл, но благодаря изобретению и росту цифровых медиа их мобильность и переменчивость достигли своего апогея. Разрабатывая собственную материалистическую и постантропоцентрическую теорию образа, философ рассматривает подвижность и динамичность как основополагающие качества образа. Выстраивая анализ от наскальных рисунков до современных цифровых артефактов, Нейл трактует материю, аффект, сенсориум, эстетическое переживание и сами произведения искусства именно через движение, предлагая собственную кинестетическую историю западного искусства.

Vision and Visuality
Ключевой вопрос этого сборника, выпущенного под редакцией американского художественного критика Хэла Фостера, — «Что такое зрение?». Зрение можно описать как физиологический процесс: отражение светового сигнала на сетчатке глаза, работа колбочек и палочек. Однако авторы сборника отказались от редукции зрения к оптическому потоку. Они исследовали его связь с культурой, социумом и Другим, техникой и политикой. Например, американский историк Мартин Джей разрабатывает понятие «скопический режим». Это совокупность техник и дискурсов, определяющая визуальные практики той или иной культуры: на что и как смотреть? Важно, что для Джея среди конкурирующих друг с другом режимов — «картезианского перспективизма», «искусства описания» и «безумия видения» — ни один из них не оказывается естественным зрением. Все способы видения детерминированы социумом и культурой. Американский историк и теоретик искусства Джонатан Крэри изменение практик смотрения связывает с трансформацией техники, выступающей эпистемологической моделью: от камеры-обскуры до стереоскопов. Каждый из авторов выступает против натурализации тех или иных визуальных практик, предлагая новые тропы осмысления зрения и визуальности: англо-американский искусствовед Норман Брайсон, обращаясь к разработкам Жан-Поля Сартра, Жака Лакана и Китаро Нисиды, призывает не бояться децентрализации субъекта под взглядом Другого; британский искусствовед Жаклин Роуз спорит с «вездесущей» фигурой постмодернистского шизофреника; американский искусствовед Розалинда Краусс рассуждает об оптическом бессознательном модернизма.
Перевод статьи Джонатана Крэри «Обновленное видение» в «Художественном журнале»

Сергей Ушакин. Медиум для масс — сознание через глаз: фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России
В работе историка культуры и антрополога Сергея Ушакина техника фотомонтажа предстает как эпистемологическая модель, определяющая зрительские практики. Фотомонтаж рассматривается не столько как вопрос формального решения, но как средство построения нового советского зрения, нового оптического режима. Ушакин рассказывает, почему фотомонтаж стал востребованным в раннесоветском государстве: от ориентации на образные техники воспитания до пересмотра канонов реалистической живописи. Помимо реконструкции исторического контекста, он показывает, как техника монтажа, сочетающая в себе документализм и форму авангарда, экономию выразительных средств и аффективное воздействие, организует восприятие, а метод разно-видения, который соединяет разъединенное, выстраивает новые связи и акценты в мире советского человека.
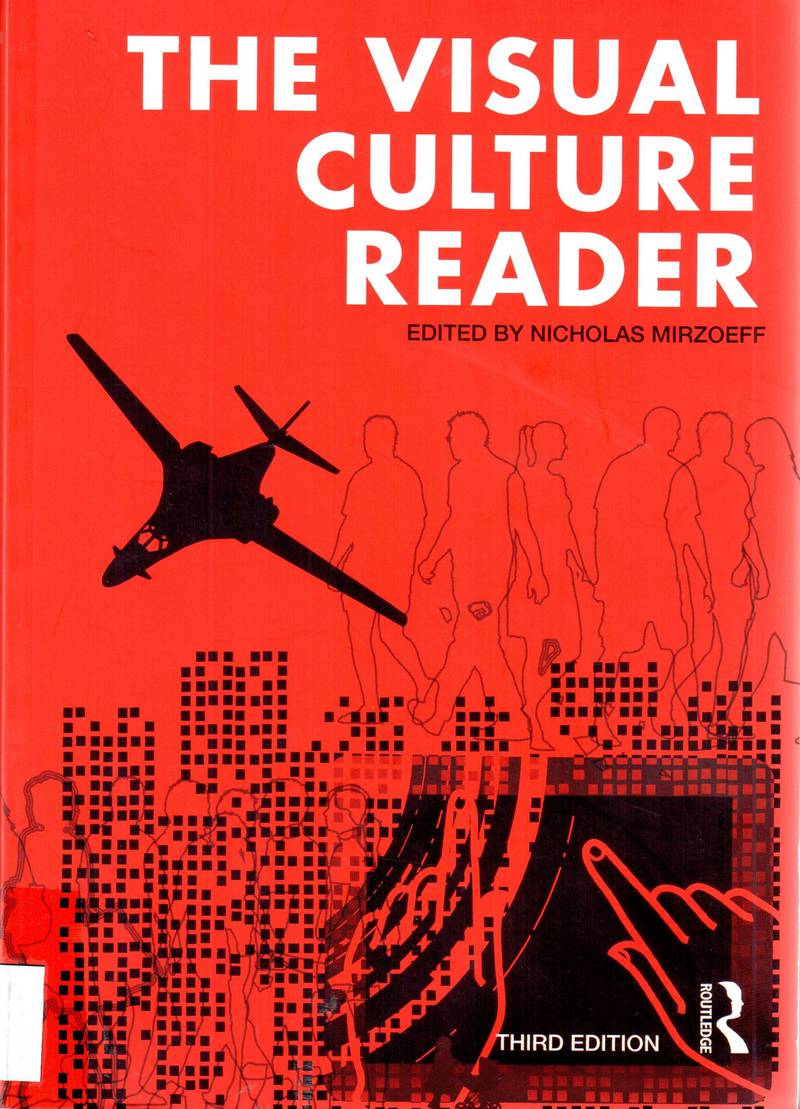
The Visual Culture Reader
Одна из ветвей генеалогии visual studies восходит к британским культурным исследованиям 1950–1960-х, для которых были важны идеологические аспекты массовой культуры: развлекательной литературы, рекламы, кино, телевидения. Представители visual studies, продолжающие это направление, анализируют визуальные артефакты как репрезентацию социально-политических отношений. Одна из ключевых фигур здесь — британско-американский исследователь Николас Мирзоев, редактор этого масштабного сборника. Во введении он рассуждает о критических визуальных исследованиях, где визуальность анализируется в контексте властных отношений, становясь предметом критики. Визуальность есть власть, диктующая, что и как может быть видимым. Отношения видимости и невидимости здесь уже вопрос не феноменологический, но политический и этический.
Статьи представителей визуальных исследований и критической теории разделены на четыре раздела. Первый ставит вопрос о перспективе визуальных исследований. Второй — о визуальности в контексте глобализации, насилия и экономики внимания: от «взгляда» дрона и визуализации военных конфликтов до осмысления видения как нематериального труда. Третий — о визуальности и телесности, деколониальном дискурсе, истории и памяти: кто репрезентирует «тело» колонии и кто визуализирует историю. Финальный раздел посвящен визуальности в цифровую эпоху и техникам визуализации. В каждом разделе исследователи задаются вопросами: у кого есть право на взгляд и кто контролирует видимость? Что остается в сфере невидимого? Как достичь контрвизуальности, о которой, как о возможности свободы и политической субъектности, говорит Мирзоев?

Общее целое
В 1980-х годах мастерскую художника Вадима Сидура посетили участники Загорского эксперимента — педагогической программы для воспитанников Загорского дома-интерната для слепоглухих людей, в рамках которой воспитанники Юрий Лернер, Сергей Сироткин, Наталья Корнеева и Александр Суворов успешно окончили Московский государственный университет. В 2016 году кураторам Ярославу Алешину и Анне Ильченко попалась архивная видеозапись этой встречи, что стало отправной точкой для выставочного и исследовательского проекта «Общее целое» в Музее Вадима Сидура. Сборник по мотивам проекта включает в себя статьи об опыте слепоглухих людей и о советской тифлосурдопедагогике: фрагменты книги «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир» дефектолога и педагога Ольги Скороходовой, автобиографическое эссе психолога Александра Суворова, статью философа Эвальда Ильенкова о вопросах формирования личности и текст американского исследователя Леннарда Дж. Дэвиса о понятиях «норма» и «нормальность».
В контексте visual studies стоит выделить эссе американской писательницы Джорджины Клиге «Слепота и визуальная культура». Деконструируя просвещенческие представления о слепоте, Клиге критикует философскую фигуру абстрактного слепого, призванную подчеркнуть первостепенность зрения для восприятия и познания. Она призывает преодолеть бинарную оппозицию зрение/слепота и отказаться от окуляцентризма в visual studies. Продуктивнее, утверждает Клиге, рассуждать о градации остроты зрения и владения зрительными навыками, ведь «существует ли вообще стопроцентное зрение?».
