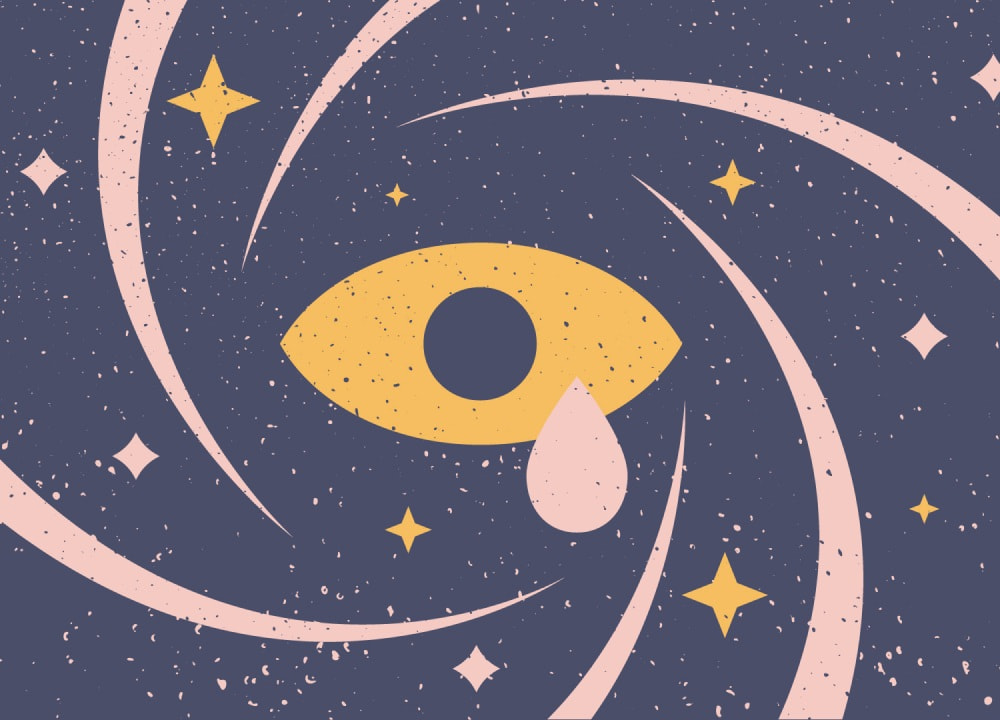плач по млечному пути
ЛИНА АВЕРКИНА
плач по млечному пути
мой дед давал тёлкам небесные имена — ночка, звёздочка, лунка.
а бычкам — простецкие, земные. беляк, рыжун, черныш.
я не пью молоко лет с тринадцати, но моим двадцать пятым летом в первый день месячных живот разболелся так сильно, что меня долго рвало белёсым молозивом (только что выпитым апельсиновым рафом на банановом молоке) и тупым вопросом — зачем я всё время ношу с собой все свои яйцеклетки и почему они так не хотят от меня уходить?
меня рвало десять минут, двадцать минут, полчаса. потом я потеряла сознание, приехала скорая и поставила пмс. деловая медицинская сестра с тонкими бровями и лапшичной рябью на водолазке всё спрашивала — имя можете назвать? как вас зовут?
а я смотрела, как выглядывает эта её водолазка из белого халата, и думала, придётся ли снова блевать, если я спрошу её — а дал бы дед небесное имя мне, если б ему позволили? тёлочье. назвал бы он меня в честь своей матери, которая пахала в поле за троих мужиков и померла так же тихо, как сносила тяжёлую деревенскую жизнь? васса. или назвал бы в честь бабушкиной сестры, которая однажды утром вышла во двор развесить бельё и уехала поднимать целину, никому не сказав ни слова? антонина.
но меня назвали простым именем алина. пришлось убрать из него одну букву, чтобы казаться особенной. такое имя было ещё у четырёх девочек в детсаду и у шестерых в параллели. такого имени не было ни у одной женщины в моём роду, и ни одна женщина из моего рода теперь не может помочь, когда узистка спрашивает: «у кого-то из ваших родственниц был эндометриоз?».
я ничего про них не знаю, кроме того, что они были матерями. они рожали, пока не умерли, а пантеон мордовских божеств пестрил женскими лицами, и женщины перетекали из сказки в сказку, отдавая свои жизни и роды, посевы и сборы урожая, смерти и болезни всесильным многоликим богиням. мастор-ава, ведь-ава, вирь-ава — разные личины одной женщины, разорванные только для того, чтобы она никогда не узнала, какой силой способна обладать; чтобы она знала только о жизнях, которые может дать, но никогда не думала о всех жизнях, которые способна отнять.
сколько жизней способна отнять я, если похороню каждую свою яйцеклетку по очереди? кем я останусь, если вырвать из меня мою «ава[1]»?
тякинем касы[2], во мне растут эндометриоидные кисты. две, потом пять, теперь восемь. самая большая объёмом 15,7 см³, она поглотила парочку маленьких и ведёт себя как агрессивный близнец-паразит.
гинекологиня рассказывает, как мне повезло, что кисты появились вот так сразу, ведь эндометриоз опасная штуковина и может долго оставаться недиагностированным, и была у неё пациентка, у которой случилось восемь выкидышей, а причина всё не была ясна, и она винила себя за каждую неудачную беременность. как мне повезло пиемс-паламс[3] — меня тошнит чаще, чем я ем, и я худею до сорока пяти, и месячные пропадают совсем.
вот круто, сказала бы я пятнадцатилетняя, опухшая и вздутая целую неделю во время каждых месячных и пихающая в вагину менструальную чашу с алика за триста рублей дефлорации ради. она не хотела быть девственницей, она не хотела быть матерью. она хотела отрезать от своих бёдер выпирающие ушки и налепить их туда, где пацаны на ощупь искали сиськи в физкультурной раздевалке. туда, где они искали тёлок.
она не хотела быть тёлкой. и когда ей передали, что кудрявый мальчишка из параллели, который сильно-сильно ей нравился — впрочем, не настолько сильно, чтобы отдавать первенство ему, а не менструальной чаше, так вот когда ей передали, что он сказал про неё: «ничего такая тёлка, только заумная», она нашла его класс на перемене (потому что наизусть знала их расписание) и сказала ему, что она не тёлка, а сука. и что ударит его по лицу, если он снова так про неё скажет.
она драться не умела совсем и больше всего на свете боялась, что он повторит назло прямо сейчас, и тогда ей придётся ударить его по лицу. она даже не знала, как сложить кулак, но зато видела, как её мать ударила её отца замороженной рыбой, так что я уверена — она бы смогла ударить того мальчишку. за тёлку уж точно. за любую.
потому что мы с ней обе очень хорошо помним, что как только новая дедова тёлка вырастала и беременела, она становилась Красоткой., а значит главной. верховной. первым делом, как только проснётся, дед шёл к ней в коровник. гладил её пузатые бока. косил для неё самую сладкую траву. остальные — поросята, кролики, куры — смиренно ждали, когда до них дойдёт очередь. они прекрасно понимали, насколько Красотка и все тёлки лучше, потому что они особенные — они умеют то, чего не умеют бычки. и поэтому бычков будут резать через полгода, как только они наберут достаточно сала, а тёлки проживут долгую жизнь. и я буду давиться их вонючим горячим молоком, намешанным с мёдом, как только простыну или разноюсь.
но превознесение Красотки заканчивалось тогда, когда её тяжёлое вымя надувалось и багровело, а молоко становилось водянистым и склизким. заканчивалось, когда её раз за разом возили к быку, а она всё никак не могла понести. заканчивалось, когда она с трудом опускала передние ноги на колени и зализывала густой слюной дыхательные пути рождённого мёртвым телёнка. тогда не оставалось сомнений — Красотке пора уходить.
она уходила красиво. её мясо не раскладывали по четырём морозильным камерам и не проваривали в мультиварке для мягонького холодца. она жила слишком долго для мясной коровы. она была молочной, а мне слышалось — млечной, потому что в девять лет я ещё не знала, что эрзянский язык, даже если бросаешь на нём говорить, продолжает ласково скруглять согласные в твоих словах и мягчить самые грубые слова.
когда жизнь очередной Красотки заканчивалась, мне хотелось выпустить её из коровника ночью. мне хотелось освободить её и позволить ей уйти, куда она захочет, и однажды я правда пошла и отвязала её., но она продолжила стоять в стойле и смотреть на меня своими умными печальными глазами. она знала о женской доле то, чего не знала я. надо было её расспросить.
одно дело, когда я говорю, что рожать не буду никогда, это моё решение. я горжусь им, я вываливаю его эйчарше, когда она сомневается, не уйду ли я декрет; я бросаю его в лицо своей матери, когда она вздыхает о скорой пенсии и просит внуков; я с холодным сердцем отдаю его и гинекологине, когда она предлагает вместо операции попробовать родить, вдруг получится. нет, спасибо. она пожимает плечами. потом может и не выйти. это совсем другое дело.
я пожимаю плечами тоже, мне ли не всё равно? но тем же вечером, пока мой левый яичник ноет, я спрашиваю своего парня: «а ты бы попробовал моё молоко?».
он городской, он не рос в коровнике, он не знает, какое парное молоко отвратительное на вкус. то ли сладкое, то ли солёное. масляное, густое, плотное. тошнотно животное, как разваренные в чугунке кости. почему-то мне кажется, что моё было бы таким же. как бы узнать, пробуют ли все Красотки своё молоко?
мне говорят, что кисты надо оперировать, они растут уже над маточной трубой и скоро заполонят меня целиком и, может быть, однажды мне повезёт и я их вытошню, чтоб не заходить в операционную без трусов и чтоб у меня не забирали очки, потому что с ними никак нельзя. да, даже если у вас минус девять. неужели операционный стол не видно? тут ничего и нет, кроме него. просто идите вперёд.
а пока прописывают таблетки, подавляющие выработку эстрогена. запрещают интенсивные физические нагрузки, интенсивный секс и интенсивные переживания. дома я ложусь на кафельный пол ванной, подложив под поясницу фланелевую пелёнку, и мягко поглаживаю впуклый живот. эта привычка быстро ко мне цепляется.
я поглаживаю живот, когда он болит. поглаживаю, когда засыпаю. иногда я поглаживаю его просто так, как будто надеясь, что моя самая огромная киста почует ласку и станет ластиться ко мне в ответ. теперь мне слегка жаль её вырезать. первенцев всегда любят чуточку больше.
но я её вырежу, я позволю её вырезать. снова стану полой, мне так сильно этого хочется. пустоты. и тогда я сама буду решать, я очень хочу снова сама решать, стану ли я Красоткой или спрячу вымя в карман.
я так долго готовилась оборонять своё тело — точила клыки, обрастала шерстью, драла горло, привыкая к команде «голос». меня обучил легион молчаливых Красоток, их матерей и матерей их матерей — я глядела им в умные печальные глаза и становилась их дочерью. ни одна из них не научила меня оборонять тело от самой себя, но это ничего. я научусь сама.
[1] ава с эрзянского — женское начало, мать.
[2] тякинем касы с эрзянского — моё дитя растёт.
[3] пиемс-паламс с эрзянского — мучаться от токсикоза.