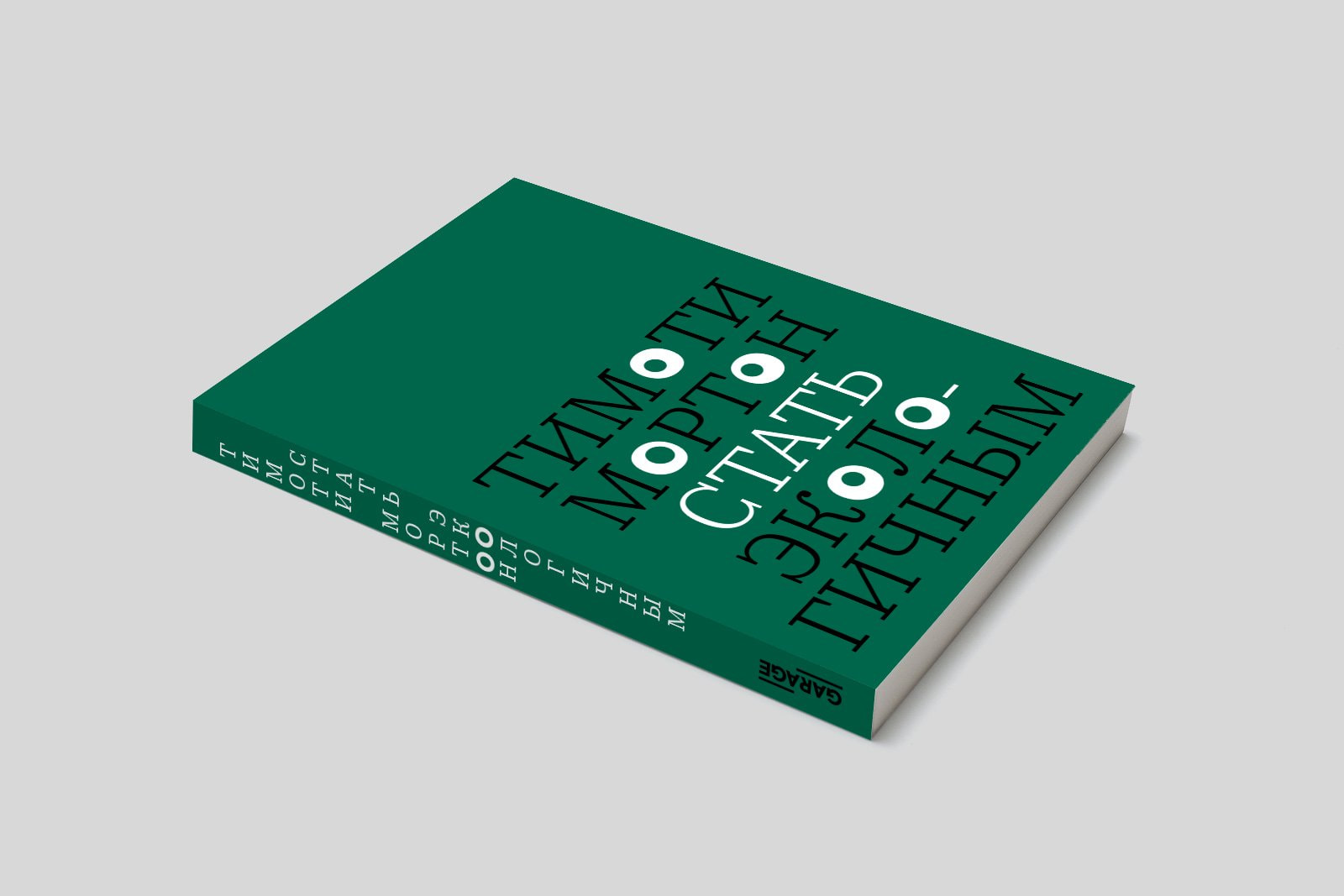Введение в книгу Тимоти Мортона «Стать экологичным»
Наплевать на экологию? Может, вы и думаете, что вам наплевать, но всё же это не обязательно так. Не читаете книг по экологии? Тогда моя книга для вас.
Вас можно понять: книги по экологии зачастую представляют собой непролазные дебри информации, успевающие устареть, пока книга попадет вам в руки. Они награждают вас подзатыльником, чтобы вам стало стыдно. Хватают за грудки и орут, пытаясь донести до вас неприятные факты. Заламывают руки в агонии и причитают: «Что же нам делать?» Просто-таки пропаганда, у которой в боксерской перчатке вечно спрятан кастет. Но моя книга совершенно другая. «Стать экологичным» не будет читать проповеди эко-пастве. Она написана для вас: может, вы и сами время от времени оказываетесь в числе паствы, а может, и вообще не знаете, что это за паства такая, или вам просто плевать. Но одно можно сказать точно: — данная книга ничего вам проповедовать не собирается. А еще в ней нет никаких экологических фактов, ни одного шокирующего откровения о нашем мире, этических или политических советов. Не найдете в ней и обзора экологических идей. То есть на самом-то деле она практически бесполезна как книга по экологии. Но зачем тогда писать нечто настолько «бесполезное», если нас поджимает время? Я что, никогда не слышал о глобальном потеплении? Зачем вам вообще читать это? Собственно, дело в том, что вы, возможно, уже экологичны, но просто не в курсе. Вы спросите, — в каком смысле? Давайте выясним.
О ЧЕМ ЭТА КНИГА
Во введении я изложу общий подход, применяемый в книге. В первой главе я обрисую в общих чертах то, как, собственно, ориентироваться в эпохе, в которой живем, то есть в эпохе массового вымирания, вызванного глобальным потеплением. Во второй главе мы перейдем к рассмотрению предмета экологического сознания и экологического мышления, а именно биосферы и пронизывающих ее взаимосвязей. В третьей главе мы взглянем на разные действия, которые могут считаться экологичными. А в четвертой изучим ряд современных стилей экологичности.
По ходу дела я познакомлю вас с собственным стилем философии. Если бы мой стиль был фильмом, а я — его режиссером, то его продюсером стала
бы объектно ориентированная онтология Грэма Хармана (о ней я еще расскажу), а исполнительными продюсерами — философы Иммануил Кант и Мартин Хайдеггер.
Пока же, во введении, я собираюсь показать, почему перед вами не обычная книга по экологии. Причина ее необычности в том, что в ней я всеми силами пытаюсь избежать одного очень привлекательного риторического приема, а именно проповеди, внушающей чувство вины. В каком смысле? Давайте начнем с того факта, что в книге практически нет фактов. Я решил, что должен сам об этом сказать, опередив критиков.
Когда вы пишете книгу об экологии, причем даже независимо от того, являетесь вы ученым, рассуждающим об экологических проблемах, или нет, создается впечатление, что в нее надо затолкать кучу фактов. В каком-то смысле это требование жанра, а жанр тут играет роль своего рода горизонта, горизонта ожиданий. Мы ждем того, что почувствуем определенные эмоции от трагедии (Аристотель считал, что это страх и жалость), тогда как комедия должна вызвать у нас улыбку. Опреде-ленный жанр письма можно найти даже в вашем паспорте. И точно так же существует жанр экологической речи — на самом деле даже несколько жанров.
БОЛЬШОЙ ДРУГОЙ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ
Жанр — это своего рода мир или пространство возможностей. В этом пространстве можно совершать определенные ходы, и, пока вы остаетесь в нем, вы выполняете какие-то действия по правилам жанра. Например, у вас может быть определенный стиль поведения на вечеринках, и, по всей вероятности, он отличается от стиля присутствия на рабочем совещании. У вас может быть свой метод чтения новостей и наверняка есть определенные способы следить за последними веяниями моды (или, напротив, игнорировать их).
Жанры — скользкие твари. Они имеют отношение к тому, что в некоторых направлениях философии называется Другим, — а когда вы пытаетесь прямо указать на другое, оно (или она, он, они) исчезает. Другой — мое представление о вашем представлении о ее представлении об их представлении о его представлении о моем представлении об их представлении… Если вы когда-нибудь играли в рок-группе, то знаете, насколько это понятие опасно. Если вы пишете музыку, которая заточена под то, что, по-вашему, хотят покупать в музыкальном магазине, скорее всего, вы просто впадете в ступор и окажетесь не в силах ни на что решиться. Причина в том, что царство Другого — это что-то вроде сети предположений, предрассудков и предзаданных понятий.
Конечно, существуют предзаданные понятия, которые всем нам очевидны или, по крайней мере, легко могут стать таковыми. Если вы хотите выяснить, какие равиоли делают во Флоренции, вам будет несложно это узнать. О «режиме флорентийских равиоли» вы можете навести справки, а сегодня можно и просто погуглить. У слова «погуглить» есть по крайней мере одно значение, которое связано с описанной идеей жанра. Когда мы гуглим что-то, мы часто пытаемся посмотреть, что об этом думает «другой». «Гугл» — тоже Другой: запутанная паутина ожиданий, притаившихся на границе поля зрения или по другую сторону всех тех ссылок, на которые у нас нет времени кликнуть. Нам никогда не хватает времени кликнуть на все ссылки (что становится всё более очевидным по мере разрастания «Гугла»). То же самое можно сказать и по-другому: эта мистическая штука, этот Другой является в некотором смысле структурным: — сколько к нему ни подкрадывайся, самого его никогда не застанешь. Его задача, похоже, в том, чтобы исчезать всякий раз, когда смотришь на него в упор, и вместе с тем создавать впечатление, что он окружает вас, когда на него не смотришь, — и порой это жутковато.
КТО ТАКИЕ МЫ?
В книге я очень часто буду говорить «мы». Но в моей сфере (в академических гуманитарных науках) так говорить совсем не модно. Модно, напротив, досконально разъяснять, насколько люди друг от друга отличаются, а если кто-то говорит «мы», значит, все эти существенные различия пропускаются или даже стираются. Кроме того, в экологическую эпоху местоимения стали делом непростым: сколько существ собрано в «мы» и все ли они люди? Я буду использовать местоимение «мы» как человек, который был целиком и полностью сформирован политикой различия, а также искажающей ее политикой идентичности. Я буду использовать «мы» в том числе для того, чтобы подчеркнуть, что существа, ответственные за глобальное потепление, — не какие-то морские коньки, а люди, такие же, как и я. Давно пора выяснить, как говорить о человечестве как виде и в то же время не вести себя так, словно последних десятилетий мысли и политики попросту не было. Мы, конечно, не можем взять и вернуться к простой и безыскусной сущности человека, которая бы скрывалась подо всеми нашими различиями. Но если мы не выясним, как говорить «мы», за нас это сделает кто-то другой. Как сказал поэт-романтик Уильям Блейк, «я должен создать свою собственную систему, или меня поработит чужая».
ЛИЦОМ К ФАКТАМ
Всем нам известно, что экологическое письмо, особенно то, что служит передаче научных сведений и часто встречается в газетах, а также в книгах с названиями, как у этой, нуждается в куче фактов. Во множестве данных. Если бы вы остановились и задумались о них, вы бы догадались, что подобные данные обычно доставляются в определенном режиме, — но никто о них особо не задумывается. У «режима доставки экологической информации» имеется определенный вкус и стиль, то есть такая доставка осуществляется в определенном пространстве возможностей. Одна из моих задач как гуманитария заключается в том, чтобы попытаться прочувствовать такие пространства возможностей, особенно если (и в том случае, когда) мы не слишком хорошо их осознаем. Пространства возможностей, не слишком для нас очевидные, способны нас так или иначе контролировать, но нам, возможно, контроль такого рода не нужен — или, по крайней мере, нам не помешает разобраться в его координатах. Достаточно вспомнить о долгой истории сексизма или расизма: эти вещи оказывали самое разное влияние на наше поведение, которое мы можем и не осознавать, и множеству самых разных людей пришлось потратить много времени и сил на то, чтобы выявить стереотипы мышления и поведения, которые закрепляют предрассудки и вместе с тем внушают людям мысль, что всё нормально.
Какие законы притяжения действуют в пространстве возможностей? Где тут верх, а где низ? Что считается верным, а что — неверным? Как далеко можно в нем зайти, прежде чем попадешь в другое пространство? Например, насколько можно исказить режим экологической информации, прежде чем он превратится во что-то другое? Подобные вопросы могут стать надежным способом исследования пространства возможностей, точно так же как суть металла можно выяснить, нагревая его, замораживая, подвергая воздействию импульсов энергии, помещая в магнитное поле и т. д., — вспомним, к примеру, как золотую монету кусали, чтобы проверить на подлинность. То же самое с искусством. Вы можете выяснить, в чем суть данной пьесы, мысленно представив себе, до какого предела можно ее переиначивать, прежде чем она станет чем-то совершенно другим, сколько безумных костюмов сойдет вам с рук, — к примеру, если поставить «Гамлета» Шекспира на Юпитере с людьми, переодетыми в хомяков, будет ли в такой постановке всё еще угадываться «Гамлет»?
Возможно, мои намерения станут очевидными, если я изложу их так: в данной книге нет фактоидов. Фактоид — это факт, о котором нам что-то известно, то есть мы знаем, что он был определенным образом покрашен и надушен, что он должен выглядеть и крякать как факт. Возможно, он даже правдив, по крайней мере с одной или нескольких точек зрения. Но всё же у него есть одно странное качество. Кажется, что он нам кричит: «Смотри, я факт. Ты меня игнорировать не можешь. Я взял и свалился тебе на голову». Интересно: факт, задуманный так, чтобы выглядеть, словно он с неба свалился. Фактоиды задуманы так, чтобы напоминать то, чем, с нашей точки зрения, должны быть факты: мы полагаем, что последние должны выглядеть так, словно они вообще не были ни задуманы, ни придуманы. Когда люди используют фактоиды, возникает ощущение, что нами манипулируют мелкие частицы истины, которые отщепились от некоего более величественного, более истинного сооружения, словно крошки от пирога. Рассмотрим, к примеру, следующий фактоид: «есть ген» такой-то черты. Многие думают, что это значит, будто некая часть кода ДНК является причиной того, что у вас имеется такая-то черта. Но если вы изучите эволюционную теорию и генетику, вам станет известен тот факт, что нет никаких «генов» чего бы то ни было. Факт в том, что черты возникают вследствие сложных взаимодействий между экспрессией ДНК и средой, в которой она осуществляется. Если какая-то часть вашей ДНК связана с определенной разновидностью рака, отсюда еще не следует, что у вас будет этот рак. Но мы снова и снова твердим один и тот же фактоид: «есть ген такого-то и такого-то рака».
КАК МЫ ГОВОРИМ ОБ ЭКОЛОГИИ С САМИМИ СОБОЙ?
Похоже, зачастую режим доставки экологической информации состоит в том, что можно назвать информационным навалом. На наши головы сваливается по крайней мере один, а часто целый ворох фактоидов. И подобный навал что-то такое авторитетно заявляет, то есть кажется, что сам режим доставки говорит: «Не ставь это под вопрос» — или даже «Если поставишь это под вопрос, будет худо». В частности, «информационный режим глобального потепления» заваливает нас огромными ворохами фактов. Но почему? Тот же вопрос можно поставить иначе: какие именно ходы мы можем совершить в пространстве возможностей, которое создается информационным режимом глобального потепления? А это, в свою очередь, достаточно сложный способ спросить следующее: какой жанр у информационного режима глобального потепления? Какой способ постановки вопроса лучше? Как мы должны себя чувствовать? Какой способ доставки информации подорвет данный режим? И так далее.
То, что у нас нет готового ответа, если только мы не отрицаем глобальное потепление как таковое, должно заставить нас на время остановиться. У отрицателей нет сомнений: с их точки зрения, этот режим пытается убедить меня в том, во что я верить не хочу. Мне в глотку заталкивают определенное мнение. Но почему не все мы чувствуем то же самое? Если мы ощущаем себя эдакими экологическими праведниками, мы чураемся других людей, считающих, что их грузят, чтобы заставить что-то чувствовать — возможно, грубую вину, ведущую к грубой вере. Речь идет не о войне мнений, а об истине. Черт возьми, мистер Отрицатель, почему ты не можешь это понять?
Вопреки тому, в чем нас хотели бы убедить фактоиды, ни один факт не может просто взять и свалиться с неба. Факт может появиться только в определенной среде, поскольку в противном случае его просто не увидишь. Рассмотрим фразу, которую вы, если вы выросли на Западе, вряд ли произносите часто: «Духи моих предков недовольны тем, что я пишу эту книгу». В каком мире подобное высказывание имело бы смысл? Что вам нужно знать, чего ожидать? Что в таком мире считалось бы правильным, а что — неправильным? Нам всем нужны некоторые допущения, определяющие, что такое реальность, что считать реальным, существующим, правильным или неправильным. Размышления о посылках такого рода могут принимать разные формы; одна из таких форм в философии называется онтологией, а другая — эпистемологией. Онтология — это исследование того, как существуют вещи. Эпистемология — исследование того, как мы их познаем.
Мысль о том, что факты имеют смысл только внутри определенных контекстов интерпретации, дополняют вопросы, на которые можно легко ответить, если вы изучаете искусство, музыку или литературу. Вопросы, к примеру, такие: как, с точки зрения этого режима, вы должны прочитывать данную информацию? Как можно понять, что вы приняли ее «правильно»? На ренессансное полотно с перспективой нельзя смотреть сбоку. Надо встать прямо перед точкой схождения перспективы, на определенном расстоянии, и только тогда возникнет иллюзия трехмерного пространства. Картина определенным образом позиционирует вас, стихотворение просит вас, чтобы вы прочли его так-то и так-то, — и точно так же бутылка кока-колы «хочет», чтобы вы держали ее определенным образом, а хомяк, когда берешь его на руки, оказывается, удобно умещается в ладони… Значительная часть так называемой теории идеологии занимается объяснением того, как вас принуждают обращаться определенным образом со стихотворением, живописным полотном, политической речью, понятием.
Режим навала экологической информации предполагает несколько разновидностей онтологии и эпистемологии (а также идеологии), но мы редко задумываемся о том, что они собой представляют. Мы слишком увлечены тем, чтобы накидать информации или окунуться в ее поток. Но в чем причина? Почему мы не желаем остановиться и попытаться выяснить, что
это за режим? Не боимся ли мы того, что можем обнаружить? Чего именно мы боимся? Почему мы заламываем руки и причитаем: «Почему отрицателям это непонятно? Почему соседу всё это не так важно, как мне?» Режим навала экологической информации служит симптомом чего-то намного большего, чем чувства, вызываемые чтением газет.
Один из способов увеличить масштаб и снова поставить все перечисленные вопросы — спросить что-то вроде: «Как мы проживаем экологические данные? Нравятся ли они нам? А если нет, что мы хотим с ними сделать?» Эта книга — «Стать экологичным» — посвящена тому, как проживать экологические знания. Похоже, что знать, в чем дело, недостаточно. Собственно, «просто знать, в чем дело» никогда не сводится к простому знанию дела, по крайней мере так следует из моих аргументов. «Просто знать, в чем дело» — еще и способ прожить некоторые вещи. А если знаешь, что есть определенный способ проживать вещи, получается, что могут быть и другие способы. Если у вас есть трагедия, можно представить нечто вроде комедии. Если живешь в Нью-Йорке, можно представить, что значит жить не в Нью-Йорке.
Похоже, есть множество способов проживать экологические знания. Представьте себе способ существования хиппи, с которым я немного знаком. Быть хиппи — это совершенно особый образ жизни, особый стиль. Но обязательно ли быть хиппи, чтобы проживать экологическую информацию? Возьмем интернет. До того, как масса людей получила к нему доступ, было два или три способа жить с интернетом. Например, существовали расслабленный, веселый, игривый, экспериментальный, анархический, либертарианский режимы, и считалось, соответственно, что интернет должен внушить нам чувство подвижности или текучести наших идентичностей. Но потом случилось нечто странное. Интернет появился у намного большего числа людей, и значительная его часть превратилась в репрессивное авторитарное пространство, в котором каждый обязан иметь одно мнение из примерно трех приемлемых, иначе к вам набежит толпа всё про всё знающих юзеров, подобно стае, пикирующей на автозаправку в фильме «Птицы» Альфреда Хичкока. Я не буду углубляться в вопрос о том, почему это произошло, но мысль вы поняли.
В книге «Стать экологичным» мы начинаем тщательнее исследовать то, как мы говорим с самими собой об экологии. Я думаю, что основной модус подобного разговора — заваливание самих себя данными — на самом деле препятствует более аутентичному способу обращения с экологической информацией. Проживать все эти сведения можно и получше, не так, как мы делаем сегодня, вместе с тем даже не зная, что проживаем их прямо сейчас. Мы похожи на людей, зациклившихся на какой-то привычке: мы снова и снова повторяем одно и то же, даже не замечая. Мы словно стоим у раковины и с остервенением моем руки — но без малейшего представления о том, как у нее оказались.
Факты постоянно устаревают, особенно экологические факты, а из числа последних с особенно большой скоростью устаревают факты о глобальном потеплении, которые славятся своей многомерностью: ведь они существуют на разных шкалах времени и в самых разных сценариях. Если мы ежедневно заваливаем самих себя фактами, мы и в самом деле можем быть сбиты с толку и напряжены. Взглянем на ситуацию под другим углом. Представим себе, что мы спим и видим сон. Что это будет за сон, если герои и сценарий меняются, порой даже сильно, однако общее впечатление — итог сновидения, его основная окраска, тональность, точка зрения или что-то в таком духе — остается одним и тем же? Здесь и правда обнаруживается аналогия из мира сновидений: это сны о травме у людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПТСР
В сновидениях при ПТСР вы представляете, как заново переживаете свою травму, причем у подобных снов отвратительная привычка возвращаться снова и снова. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд задался вопросом о том, почему так происходит: — почему мы видим в этих снах вещи, которые причиняют нам вред, почему мы видим их в том режиме сновидения, который в определенном смысле вреден, ведь они расстраивают нас, мы просыпаемся в поту и слезах, не можем отделаться от приснившегося сна и заняться своими привычными делами. Фрейд доказывал, что в подобном процессе должно присутствовать своего рода удовольствие, иначе бы мы ничего такого с собой не делали. Какой-то аспект заваливания самих себя данными о травме в мире сновидений должен быть приятным. И если моя аналогия верна, отсюда следует, что режим наваливания информации в определенном смысле тоже приятен, пусть даже он, как может пока- заться, сбивает с толку и угнетает.
По мнению Фрейда, человек, страдающий ПТСР, в своем сновидении пытается поместить себя в момент, предшествующий травме. Почему? Потому что сама способность предвосхищать нечто порождает чувство безопасности или уверенности. Упреждающий страх намного менее интенсивен, чем страх, испытываемый вами, когда вы внезапно оказываетесь в самой гуще травмы, — такой страх Фрейд называл испугом. Собственно, травмы по определению представляют собой вещи, в гуще которых вы оказываетесь, то есть вы не можете взглянуть на них сбоку или сзади, и именно поэтому они травматичны. Например, предположим, что вы вдруг попали в автокатастрофу. Если бы вы могли предвидеть, тогда, наверное, можно было б свернуть в сторону.
Сновидения при ПТСР пытаются создать пузырь упреждающего страха (Фрейд называет его тревогой, но в контексте данной книги этот термин может привести к путанице, так что в дальнейшем я его использовать не буду), который образует кордон вокруг первоначальной травмы, вызывающей испуг. Тогда, по аналогии, режим информационного навала — это применяемый нами способ поместить себя в вымышленную точку во времени до того, как случилось глобальное потепление. Мы пытаемся предугадать то, внутрь чего мы уже попали.
СДЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ
Данные в их явном содержании требуют, казалось бы, неотложных действий. Они словно вопиют: «Смотри, разве ты не понимаешь? Проснись! Сделай что-нибудь!» Однако скрытое содержание такого режима отправления и получения данных решительно противоречит неотложности: «Нечто наступает, но еще не наступило. Подожди — оглядись, предскажи». Понятно ли вам, в каком смысле такое послание является двусторонним? Одна сторона шокирует своей неотложностью; другая представляет собой противошоковый пузырь. Что это значит? Это значит, что никакое уточнение данных и никакой режим их навала в конечном счете не сработают. Невозможно соотнести сновидение при ПТСР с испугом, который оно пытается превратить во что-то другое. Точно так же режим навала экологической информации (который не относится исключительно к глобальному потеплению) является — причем я должен высказаться как можно резче — прямой противоположностью того, что требуется нам, чтобы понять, где мы находимся и почему, то есть чтобы начать проживать данные. Прямо сейчас ситуация выглядит так, словно бы мы просто ждали правильных данных, а потом начнем жить по ним. Однако такие данные никогда не поступят, поскольку режим их доставки запрограммирован так, чтобы заблокировать правильную реакцию: — мы попали в гущу ужасных и непонятных травматических событий, таких как глобальное потепление и массовое вымирание, и не особенно понимаем, как их проживать.
Не является ли такой режим ПТСР истинной причиной, по которой кажется столь трудным что-нибудь сделать, сделать хоть что-нибудь? Почти любая конференция по экологии, в которой мне доводилось участвовать, заканчивалась круглым столом, на котором кто-нибудь внезапно спрашивал: «Но что же нам делать?» Словно бы многодневные причитания еще не были формой «дела». Вопрос «Что же нам делать?» выступает симптомом того, что мы попали в пугающую ситуацию — пугающую в специальном фрейдовском смысле актуального переживания травмы. Как и в случае любой травмы, мы не понимали, насколько она пугает, пока не оказались внутри самого опыта. Мы не хотим знать то качество экологической неотложности, которое характеризуется фразой «это уже происходит». Вопрос, который ставят по завершении круглых столов, желает заглянуть в будущее, предугадать и заранее понять, что делать. Но именно это нам недоступно. Мы ехали не по той дороге, смотрели не в том направлении — вот почему всё случилось. Экологические факты в настоящее время очень часто представляют собой факты, говорящие о непреднамеренных последствиях человеческих действий. Именно так: в большинстве своем мы вообще не представляли, что делаем, по крайней мере на определенном уровне. Точь-в-точь как в нуаре, в котором главный герой выясняет, что всё время работал на враждебное секретное агентство.
Мне, собственно, очень нравятся вопросы вроде «Что же нам делать?». Потому я и отказываюсь давать прямой ответ. То, что спрашивается в подобном вопросе, равно как и сам способ его постановки — всё это имеет отношение к необходимости контролировать все аспекты современного экологического кризиса. Но мы их контролировать не можем. Ведь в противном случае нам потребовалось бы открутить всё назад ко времени за десять тысяч лет до нашей эры, когда люди еще не успели запустить агрокультурную логистику, которая потом привела к промышленной революции, выбросу углекислого газа, а значит, и к глобальному потеплению вместе с массовым вымиранием.
Однако в определенном смысле всему этому есть вполне благородное объяснение. Не бывает так, чтобы сначала вы думали, а потом действовали. Вы не можете увидеть всё сразу. Вы просто какое-то время копаетесь, а затем получаете определенное представление о происходящем с более или менее точным пониманием предыстории. Предсказание и планирование до странности переоценены, что доказывает нам сегодня нейронаука и что всегда говорила феноменология. Всё дело в том, что мы переоцениваем саму идею свободной воли. Наши религии, основанные на агрокультуре, говорят нам, что у нас есть душа, находящаяся где-то внутри тела, но в то же время за его пределами, и эта душа руководит телом, как возничий, который правит лошадьми (именно так утверждает греческий философ Платон в диалоге «Федр»). Но идея свободной воли коренится в той самой динамике, которую мы опознали в качестве проблемы. Мы всегда думали, что стоим на вершине мира, вне вещей или за их пределами, что можем посмотреть свысока и решить, что именно делать, и всё продолжалось в таком духе примерно двенадцать тысяч лет.
Возможно, экологические факты требуют, чтобы мы не «знали», что именно нам следует немедленно сделать.
Но здесь присутствует определенный парадокс: хорошо известно, «что делать», — надо существенно ограничить или устранить выбросы углекислого газа. Мы совершенно точно знаем, как следует поступить. Но почему же тогда мы не совершаем эти шаги? Здесь есть несколько отличных способов найти для себя оправдание. Например, можно заявить, что неолиберальный капитализм настолько репрессивен и вездесущ, что только глобальная революция могла бы подорвать структуры, загрязняющие биосферу выбросами углекислоты, а именно большие корпорации. Так что сначала должна произойти такая большая социальная революция, а потом, как только мы начнем относиться друг к другу правильно, мы сможем заняться сокращением выбросов углекислого газа. Разве в каком-то странном смысле не тот же аргумент был предъявлен Индией на конференции по изменению климата в Копенгагене в 2009 году? Индия утверждала, что не может ограничить выброс углекислого газа, поскольку сначала ей нужно пройти тот же путь «развития», что был у Запада. Как только она станет обществом соответствующего типа, она сможет подумать о том, как наносить поменьше вреда. Даже если предположить, что эта стратегия на самом деле сработает, к тому времени, когда вы получите желаемое, Земля уже успеет расплавиться.
ВЕЩИ И ВЕЩЕ-ДАННЫЕ
«Что же нам делать?» — вопрос мистический: имеется совершенно точное описание требуемых мер, но у нас никогда не будет ощущения, что мы делаем всё абсолютно правильно, даже если попробуем. Вот в чем парадокс: мы знаем, как следует поступить, и вместе с тем не сможем подняться на достаточную высоту над миром, чтобы посмотреть, как именно выглядит ситуация. И это крайне странно, поскольку тут совмещаются два факта: у нас есть точные данные и решения, однако — вместе с тем — в нагрузку идет неспособность увидеть за деревьями лес. Всё время кажется, что деревьев слишком много.
Кстати, проблема намного «интереснее» (то есть хуже), чем я только что сказал. Дело в том, что всякое действие как таковое всегда будет страдать тем же парадоксом. Например, вы «знаете, что делать», и тем самым предполагается, что индивиды или малые группы должны сократить выброс углекислоты, а не разрушать глобальный капитализм или же избегать тех способов современного производства, которые ведут к загрязнению. Вы никогда не сможете проверить заранее, окажут ли ваши действия желаемый эффект; в частности, вы знаете, что Земля настолько велика, что ваше малое дело не будет иметь никакого особенного значения. В действительности ваш личный выброс углекислоты, скорее всего, статистически вообще не имеет никакого значения. Однако миллиарды таких выбросов как раз и вызывают глобальное потепление. Так гласят ваши данные. Но если не делать вообще ничего — это и будет проблемой, а значит, чувство бессилия или, наоборот, самоуверенности тоже не сработает.
«Что же нам делать?» — вопрос, который желает от чего-то освободиться. Но от чего? Он желает освободиться от бремени тревоги и неопределенности. Однако данные как таковые, не говоря уж о данных о глобальном потеплении, — это именно данные о тревоге и неопределенности. Ведь это статистические данные. У вас никогда не будет возможности доказать, что x определенно вызывает y. Самое большее можно сказать, что x вызывает y с девяностодевятипроцентной вероятностью. Например, закономерности в диффузных камерах Большого адронного коллайдера, ускорителя частиц в Женеве (CERN), служащие доказательством наличия бозона Хиггса, возможно, не доказывают в полной мере существование этой элементарной частицы, но такое «возможно, не» ограничивается мельчайшей долей одной десятой процента спектра вероятности. Если подумать, это намного лучше, чем просто утверждать какие-то вещи, поскольку в таком случае обнаруживаются реальные вещи и вам не нужно подкреплять свое утверждениеугрозой применить силу. Бозон Хиггса есть не потому, что папа римский заставляет в него верить, а потому, что вероятность его несуществования крайне мала, если полагаться на закономерности, которые физики находят в своих данных. Вот что делают ученые: ищут в данных закономерности. Они смотрят на закономерности — и здесь намного больше, чем можно подумать, сходств с отношением к искусству, но подробнее об этом я скажу позже.
БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ИСТИНА
Данные (data) означают просто «то, что дано». Это форма множественного числа супина латинского глагола «dare», то есть «давать»: те аспекты вещей, которые даны нам, когда мы их наблюдаем. Если у нас есть весы, можно собрать данные о весе яблока. Если у нас есть ускоритель частиц, можно собрать данные о протонах в яблоке. На самом деле данные — совсем не то же, что факты, не говоря уже об интерпретациях фактов. Чтобы получить факт, вам нужны две вещи: данные и какая-нибудь их интерпретация. Это может показаться непонятным, поскольку в обычных рассуждениях о науке факты часто мыслятся на крайне старомодный манер. Факты представляются в качестве своего рода штрих-кодов, которые можно считать с вещи, то есть они якобы самоочевидны. Но научный факт не самоочевиден. И именно поэтому вам нужно провести эксперимент, собрать данные и проинтерпретировать их.
Обратите внимание на то, что ни данные, ни интерпретации не являются настоящими вещами, о которых мы собираем данные и которые интерпретируем. Фактоид — это кусок данных (как правило, довольно небольшой), который был проинтерпретирован так, чтобы выглядеть истинным. Он «более-менее истинный» (truthy), если вспомнить удачное выражение американского комика Стивена Колберта, придумавшего пародийный термин «более-менее истинность» (truthiness). Фактоид похож на истину, или, как говорят сегодня некоторые ученые, он «истино-подобен». Фактоид более-менее истинен, поскольку согласуется с тем, чем, с нашей точки зрения, являются факты. В силу же сциентизма — распространенной веры в то, что наука рассказывает нам о мире точно так же, как это могла бы делать религия, — мы полагаем, что факты абсолютно просты и однозначны: они исходят из самих вещей. Сциентизм представляет собой поклонение фактоидам. Фактоиды предполагают установку, заключающуюся в том, что вещи сами несут на себе своего рода штрих-код, который сразу указывает, что они собой представляют, безо всякого опосредования со стороны людей, их интерпретирующих. Более истинным нам кажется то, что обходится без посредника и преподносит нам однозначные данные. Однако данные — не факты, по крайней мере пока еще не факты. А экологические данные настолько сложны и относятся к настолько сложным феноменам, что превратить подобные данные в факты непросто, не говоря уже о том, чтобы проживать такие факты, а не просто повторять более-менее истинные фактоиды, выступающие содержанием сновидения ПТСР, которым мы снова и снова себя тешим. В способе работы болееменее истинности уже присутствует возмущенный вопрос: — «Разве вы не видите?!» Однако «видеть» — как раз не то, что мы делаем с этими данными.
В общем, боюсь, что мир науки на самом деле неустойчив и недостоверен. И любая попытка достичь полной достоверности — это попытка жить не в эпоху науки, а в какую-то другую эпоху. Режим навала данных, даже если мы принимаем реальность глобального потепления, никогда не принесет нам того удовлетворения, которого, как нам кажется, мы желаем. Мы изрыгаем данные и прислушиваемся к ним, словно бы они могли дать удовлетворение, и в этом вся проблема. Мы застряли на первых стадиях проживания травмы — той травмы, которая, не забывайте, всё еще происходит и боль которой совершенно очевидна, если вы только обращаете на нее внимание. Это всё равно что увидеть сон ПТСР непосредственно в момент травмы, словно бы можно было заснуть и увидеть во сне то, что вы предчувствуете приближающийся автомобиль, в тот самый момент, когда вы уже попали в автокатастрофу. Если принять такую формулировку, разве не становится ясно, почему нам ничего не даст тот режим, из-за которого мы, как правило, залипаем в новостных репортажах, на пресс-конференциях, за ужинами и в книгах с названиями, как у этой?
Отрицание таких планетарных синдромов, как глобальное потепление, заставляет нас еще глубже увязать в фактоидах. Мы тратим кучу времени на беспокойство или спор по поводу фактоидов, которые не имеют никакого отношения к данным и интерпретациям данных. Когда мы переключаемся в такой режим — будучи отрицателями или же споря с ними, — мы просто идем по ложному следу. Более-менее истина — своего рода реакция, какой-то волдырь, возникающий из-за реальной проблемы, то есть реакция на то, что мы живем в современную научную эпоху, которая характеризуется радикальным разрывом между данными и вещами. Ни один режим доступа не может исчерпать все качества и характеристики вещи. Следовательно, вещи открыты, они уклоняются от полного доступа. Вы не можете мысленно схватить всё то, чем является яблоко, поскольку вы забыли его попробовать. Но даже если укусить яблоко, не получится постичь то, что же оно такое, поскольку вы забыли прогрызть его, как червь. То же самое выйдет и тогда, когда вы его прогрызете. Каждый раз перед вами оказывается не яблоко в себе, а данные яблока: у вас есть мысль яблока, вкус яблока, червоточина яблока. И даже диаграмма всех возможных доступов к яблоку во всем пространстве и времени — если предположить, что такая диаграмма возможна (а это не так), — упустила бы тот тип яблока, что схватывала бы менее полная диаграмма. В обоих случаях будет не яблоко, а лишь диаграмма яблока. Но, разумеется, данные яблока существуют: яблоки зеленые, круглые, сочные, сладкие, хрустящие, в них полно витамина C; они фигурируют в книге Бытия в качестве самого неудачного перекуса в истории человечества; их водружают на головы мальчишкам, чтобы пустить в них стрелу и чтобы было потом о чем рассказывать… Все эти вещи не являются яблоком как таковым. Существует радикальный разрыв между яблоком и тем, как оно является, его данными, так что независимо от того, сколько вы будете изучать яблоко, вы не сможете определить место разрыва, указав на него: это трансцендентальный разрыв.
Трансцендентальный разрыв между вещами и веще-данными становится вполне очевидным, когда мы изучаем то, что я люблю называть гиперобъектами, то есть громадные вещи, которые, так сказать, «распределены» в пространстве и времени, — они занимают многие десятилетия или столетия (и даже тысячелетия), охватывая всю Землю, как, например, глобальное потепление. На такие вещи вообще никогда нельзя указать прямо. Эти вещи (например, эволюция, биосфера, климат) намекают нам на то, как вообще существуют вещи — какие угодно, если следовать нашему современному взгляду на них. Любые вещи: ложка, тарелка с яичницей, припаркованная машина, футбольное поле или шерстяная шапка. Ни на одну из них невозможно указать прямо. Когда вы чувствуете свою шерстяную шапку, ощущается именно то, что она шерстяная, то есть вы получаете данные шапки, а не настоящую шапку. Когда вы надеваете шапку, вы используете шапку определенным образом, или получаете к ней соответствующий доступ, однако вы всё же не получаете к ней полный доступ. Когда она начинает греть вам голову и вы утром выходите на холодную улицу, шапка на вашей голове в каком-то смысле исчезает, поскольку вы спешите попасть из пункта А в пункт Б, вам тепло и хорошо, так что шапка делает свою работу, и вы можете о ней забыть. Это качество вещей — которые в каком-то смысле исчезают, успешно справляясь со своей функцией в вашем мире, — должно подсказать вам, что они такое на самом деле. То, чем они выступают на самом деле, решительно отличается от веще-данных. Когда вы смотрите на свою шапку или фотографируете ее, у вас есть зрительное восприятие шапки или ее фотография, но не настоящая шапка.
Фактоид шапки притворяется настоящей шапкой. Однако фактоид шапки — это определенная интерпретация данных шапки, притворяющаяся, что она не интерпретация. Вообще говоря, такая форма истины серьезно устарела — более чем на двести лет. Дэвид Юм, знаменитый шотландский философ середины XVIII века, доказывал, что вы не можете взять и заглянуть под крышку данных, чтобы понять, что представляют собой сами вещи. Его преемник Иммануил Кант к концу XVIII века объяснил причину: дело в радикальном разрыве, о котором я начал говорить, разрыве между вещами и данными. Экологические вещи очень и очень сложны, в них много движущихся частей, они в значительной мере распределены по Земле — и в пространстве, и во времени. Так что заглянуть под экологические веще-данные просто невозможно, а когда мы пытаемся это сделать, мы только еще больше запутываемся.
КАК ВКЛЮЧИТЬ В КАРТИНУ НАШУ СОБСТВЕННУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ
Отрицание глобального потепления на самом деле представляет собой смещенное отрицание модерна как такового. Есть что-то такое в нашей современной эпохе, что мы не хотим досконально знать, и именно о нем говорили Юм с Кантом. Данные шатки, данные — это не вещи, и вместе с тем данные — всё, что у нас есть. Порой я спрашиваю себя, не перевоплотился ли Юм в Роджера Уотерса, бас-гитариста и автора песен Pink Floyd. В песне «Breathe», которая вошла в их альбом «Темная сторона луны», они поют то, что мог бы легко написать Юм: «Всё, чего ты касаешься и что ты видишь, / Это всё, чем когда-либо будет твоя жизнь»(2). Вот именно. Вы не можете иметь дело с вещами напрямую, без рук и без глаз — или без служащих им расширением экспериментальных приборов, термометров, лабораторий и идей о том, что представляют собой научные факты. Довольно забавно, что жить в эпоху науки — значит всё больше и больше понимать, что ты плотно упакован в пленку собственного опыта.
«ЕСТЕСТВЕННОЕ» ЗНАЧИТ «ПРИВЫЧНОЕ»
Поэты-романтики, жившие примерно в то же время, что и Юм с Кантом, быстро с этим разобрались. Они поняли, что, когда вы по-настоящему приближаетесь к вещам, они начинают «растворяться». Иными словами, когда вы освобождаетесь от нормализованной системы координат, проступает странность вещей, тот факт, что вы не можете получить к ним прямой доступ. Предположим, вы исследуете поверхность скалы при помощи геологического молотка и лупы. Вы намного ближе к скале, чем тот, кто видит ее на открытке. Тот, кто смотрит на открыточную картинку, совершенно уверен в том, что он видит. Картинки на открытках — это потомки того, что появилось в искусстве до романтизма, а именно живописности. Живописный мир выстраивается так, чтобы выглядеть как картина, то есть словно бы он уже проинтерпретирован и разложен человеком. Легко понять, что есть что: вон там гора, там озеро, на переднем плане, возможно, дерево. Довольно забавно, что классический живописный образ, который я только что описал, — это, в общем-то, образ, любимый всеми, всеми на планете Земля, и, возможно, именно его вездесущность объясняет, почему он часто кажется китчем или банальщиной. Довольно забавно и то, что в целом именно это видели и люди в саванне миллионы лет назад. Если вы какой-нибудь доисторический человек, очень удобно иметь по соседству водоем, тень (от деревьев), и очень хорошо, если всё окружено защищающими ваше жилище горами, на которых есть, как вам известно, источник, который питает озеро (к примеру). Живописность подогнана под фундаментальный человекоцентричный взгляд на вещи, то есть она антропоцентрична.
Однако вид на гору с близкого расстояния — совсем другое дело. Предположим, вы поэт-романтик или ученый, и вы решили взять и попасть в саму картину, в сам «ландшафт», то есть в картину ландшафта. Тогда живописность исчезнет. Вы у самой скалы, один на один. Она уже не прекрасный фон для ваших — то есть доисторического человека — палеолитических проектов. Она превращается в нечто странное: вы видите всевозможные кристаллы, изгибы и формы, которые не имеют большого отношения к вашему обыденному миру. Возможно, вы заметите ископаемые: — другие формы жизни использовали скалу не так, как вы. Или, быть может, вы заметите птицу, которая свила в расщелине гнездо. Вы начинаете понимать, что это не просто ваш собственный мир.
Всё это похоже на синдром смены часовых поясов. Когда вы прибываете в далекое место, вас немного (а может, и не немного) бесит, что это место не ваше, пока еще не ваше. На самом деле вы настолько устали и ваши биологические часы настолько сбились, что даже время перестало быть вашим. Время перестает быть удобной нейтральной коробкой, в которой вы просто живете, позабыв о нем, и просто ждете, пока будильник или календарь не напомнят, что и когда делать. Время перестает быть тем, чем оно в действительности не является, а именно человеческой интерпретацией времени. «Интерпретация» не значит всего лишь «ментальное описание». Она означает множество способов доступа к вещи и ее применения. Не забывайте, что ваш способ доступа к яблоку дает вам разные данные о яблоке, но не яблоко в себе. Даже поедание яблока дает вам лишь кусочки яблока, но не всё яблоко в его многомерной славе. Вспомним о том, как мы обычно говорим об «интерпретациях» музыки. Такие интерпретации не подразумевают просто размышления о музыке — имеется в виду еще и собственно проигрывание музыки, то есть исполнение музыкального произведения. Дирижер Берлинского филармонического оркестра «интерпретирует» ноты, размахивая руками и заставляя музыкантов определенным образом «интерпретировать» строки партитуры. В такой формулировке всё вполне очевидно. Исполнение вещи — это не вещь.
Итак, у вас в руках геологический молоток и ваша специальная камера, и вы столкнулись с тем фактом, что удары молотком и фотографирование вещей — отнюдь не сами эти вещи. Ваш живописный мир был настолько слаженным, что вы забыли о том, что и само представление вещей как чего-то живописного является исполнением таких вещей, как озера, деревья и горы. Вы думали, что видите что-то непосредственно, — скорее всего, вы называете это природой. «Природа» означает в целом то, о чем вы забываете, поскольку оно просто работает. Например, о «человеческой природе» мы говорим: «Такова моя природа, ничего не могу с ней поделать». «Природа берет свое». И точно так же мы говорим о нечеловеческой «природе»: в этом весь смысл «разговоров о погоде», которые можно вести с незнакомцем на автобусной остановке. Вы способны найти общее основание в том, что кажется нейтральным, что просто работает, а потому создает фон для вашего общения. Однако глобальное потепление лишает нас этого предположительного нейтралитета, подобно слишком ретивым рабочим сцены, которые убирают бутафорию, когда пьеса еще не закончилась.
Так что ваш научный взгляд на вещи — с молотком и камерой — не означает, будто бы вы «видите» природу: вы всё еще интерпретируете ее человеческими инструментами и человеческим прикосновением. Мышление в экологических категориях означает, что надо избавиться от подобного представления о природе; — отказ от него кажется невероятным, но только потому, что мы слишком привыкли к определенным способам получения доступа, исполнения и той или иной «интерпретации» таких вещей, как озера, деревья, коровы, снег, солнечный свет или пшеница.
Поэты-романтики догадались, что, когда вы «занимаетесь наукой», как я только что описал, когда вы открываетесь всевозможным данным, а не просто клише, вы должны проникнуться «опытом». В итоге вы пишете стихотворения об опыте встречи со скалой, о том, насколько это на самом деле странно. Вы можете даже зайти чуть дальше и написать о написании стихотворения о встрече со скалой. Собственно, вполне научный подход. Именно так работает проживание данных. Вы понимаете, что включены в интерпретацию, из-за чего ваше искусство становится рефлексивным, то есть начинает говорить о самом себе. Так что весь этот тяжеловесный бизнес — весь навал информации — служит не чем иным, как способом не проживать научные данные. Он для нас и есть способ не замечать странности жизни в эпоху науки. Такова наша реакция на кучу информации, которая сваливается на нас, на вещи, которые мы проектируем и создаем, на нашу оторванность от природы или экологии, которую мы чувствуем, а также на панику и беспомощность, которые мы испытываем, когда задумываемся о таких вещах, как глобальное потепление. Вы не можете переключиться в рефлексивный режим, если начинаете с ментальности, полагающей, что экологическая информация связана с вываливанием на людей кучи фактоидов.
Значительная часть экологических работ, которые часто называют энвайронменталистскими, выполнена, грубо говоря, в том же формате, что и режим навала информации. Они построены так, чтобы быть более-менее истинными, чтобы соотнести вас с некоей живописной Природой, — в дальнейшем я буду писать это слово с большой буквы, чтобы вы не забывали, что имеются в виду не настоящие деревья и кролики, а понятие, то есть определенная интерпретация. Довольно забавно то, что заковыристое, странное и часто именно постмодернистское искусство подходит для жизни в эпоху науки намного больше, чем сентиментальные «очевидные» картинки величественных тигров и львов или роскошных джунглей, как в каком-нибудь глянцевом календаре. Проживать экологические факты сложно: возможно, они требуют от нас именно того, чтобы мы не «знали» сразу, что именно следует делать. Сформулируем это строже. Возможно, они требуют того, чтобы мы и не должны были сразу знать, что делать. Прибавьте сюда факт антропоцентризма: — в течение довольно длительного времени мы проектировали, интерпретировали и исполняли вещи так, чтобы люди оставались на вершине или в центре всех сфер бытия (физического, философского и социального). Экологические факты говорят о непреднамеренных последствиях антропоцентризма. А поскольку они говорят о нас, о том, как мы существуем, что делаем и как себя ведем, на них сложно посмотреть с расстояния: составить точку зрения о самих себе, поставить под вопрос нашу собственную практику и способ смотреть на вещ — это одна из самых сложных вещей; а еще с такими вещами всегда сложно смириться: таковы уж они.
Если вы твердо верите в реальность последствий выброса углекислого газа, причиной которого стало человечество, не будьте слишком строги к отрицателям глобального потепления. У вас с ними больше общего, чем может показаться. Пытаться задавить их фактами, представленными в виде фактоидов, — именно тот режим, в котором они и так уже находятся, а именно режим уклонения от странности нашей современной научной эпохи. Вы боретесь с огнем другим огнем — или даже заливаете холодную воду холодной водой, поскольку фактоидная речь пытается залить холодной водой огонь современного знания, прожигающий множество наших предпосылок и достоверностей. Что же тогда представляет собой экологическая реальность? Я буду разбирать данный вопрос во второй главе, где мы рассмотрим основной экологический факт, а именно — взаимосвязанность форм жизни. Этот вроде бы совершенно очевидный факт гораздо страннее, чем можно подумать.
ПОЧЕМУ МЕНЯ ЭТО ДОЛЖНО ВОЛНОВАТЬ?
В разных культурах разные способы быть студентом. За многие годы я выяснил это, путешествуя по США, где я работал в четырех разных регионах (на Востоке, в Центре, на Западе и на Юге). А когда я веду семинары в Европе и других странах, то тоже замечаю существенные отличия. Студенты в Париже заметно отличаются от тайваньских студентов, которые в свою очередь разительно отличаются от студентов из Северной Калифорнии. Например, сложность преподавания в прекрасном высокогорном городе Боулдер (Колорадо) состояла в том, что студентов надо было убедить, что изученное нами стихотворение — это самая психоделическая вещь, которую им вообще доведется встретить в жизни, поскольку их основные занятия за пределами школы заключались в употреблении марихуаны и сноубординге. Но поскольку подобный трюк уже удавалось проделать с предыдущим стихотворением, надо было продолжать повышать ставки.
Сначала Калифорния просто шокировала меня. Обычно в воздухе чувствовалась определенная нервозность, замаскированная наигранным и преувеличенным безразличием. Казалось, что студенты держат в руках невидимые телевизионные пульты и говорят про себя: «Ну давай, развлекай нас, или мы переключим канал». Преподавание включает в себя работу с разными типами эмоциональной энергии, но в основе это три разновидности, и вы должны переходить от одной к другой. Это клубника, шоколад и ваниль, известные также как страсть, агрессия и невежество, что соответствует общей буддистской типологии эмоций. (Есть всевозможные разновидности, точно так же как может быть клубника с ванильным привкусом или шоколад с тянучкой и т. д.)
Сперва вам хочется понравиться студентам, а еще хочется, чтобы вам нравилось ваше поприще, поэтому вы работаете со страстью. Потом вы позволяете себе немного разлюбить преподавание и начинаете работать с агрессией, то есть учитесь позволять студентам немного вас ненавидеть. Вы учитесь работать с энергией козла отпущения, то есть с тем, как группа пытается сбрасывать свой негатив на какого-то человека. Если таким человеком является студент в классе, он становится адвокатом дьявола и пытается на глазах у всех вызвать вас на бой, но вы учитесь отводить удары и перенаправлять их на класс, не вступая в схватку.
Наконец вы начинаете работать с невежеством или безразличием, и с подобной энергией работать труднее всего, поскольку противоположностью любви является не ненависть, а базовое чувство полного безразличия. Задача весьма хитрая, поскольку вы, вероятно, не сможете прорваться к этому чувству, ведь в таком случае потребовалось бы подключиться к энергии агрессии, а ваши студенты не хотят двигаться в эту сторону; или можно попытаться дискутировать с ними, но тогда вы почувствуете уязвимость, а студенты, скорее всего, проигнорируют ваши попытки, и тут уж не избежать фрустрации.
Именно в подобную ловушку я однажды угодил, читая лекцию. Я рассказывал что-то о романтическом искусстве, и вдруг я заговорил о фортепьяно, которое было изобретено в конце XVIII века. И задал примерно такой вопрос: «Кто-нибудь знает что-то об истории фортепьяно?» И вот это случилось. Калифорнийские студенты не уверены в себе, но они не стесняются подать голос (они сидели там со своими невидимыми пультами в руках). Откуда-то справа (да, читатель, я пересказываю травму, от которой остались неизгладимые воспоминания), ближе к задним верхним рядам, я вдруг услышал женский голос: «Почему меня это должно волновать?»
У меня было такое чувство, словно мне дали пощечину.
Поскольку я сам всегда был прилежным учеником, мне и в голову не приходило, что можно плевать на то, что происходит на занятиях. Вопрос могли бы задать и на марсианском, настолько он был поначалу непонятным. Я просто оцепенел. У меня уже давно не возникало такого чувства в аудитории, а к тому моменту я преподавал около пятнадцати лет. И я впал в оцепенение совершенно нового типа. Нельзя сказать, что был совершен выпад в мою сторону. Сначала я вообще не понял, что произошло. Шла всего лишь вторая неделя десятинедельного курса, и само по себе это было дурным знаком. В тот момент я не нашелся, что сказать в ответ.
Эпизод крутился у меня в голове несколько дней. Я просто не мог понять, как это так. Было ощущение, что я съел что-то такое, что сложно переварить.Но к концу недели я понял нечто важное. Я мог обратиться с той же фразой к самому себе. Почему меня, Тимоти Мортона, должно настолько волновать преподавание каких-то вещей о фортепьяно, что, когда кто-нибудь заявляет: «Почему меня это должно волновать?» — меня это просто убивает. Может, лучше стать чуть-чуть более «спокойным», то есть беспечным? Но если вы примерно такой же маньяк контроля, как и я, тогда беспечность и открытость ощущаются как своего рода легкомысленность… Однажды в Боулдере я увидел замечательную каллиграфическую надпись, сделанную буддистским учителем по имени Озель Тендзин, в коридоре у моей подруги Дианы. Широкими мазками он написал там два слова: «МЕНЬШЕ ПАРЬСЯ». Вот в этом всё дело. Когда мне — а Будда наверняка отнес бы меня к аккуратистам — удается провести медитацию как надо, у меня всегда ощущение, что она проходит не вполне правильно. Теперь ощущение запоротой медитации я использую как сигнал того, что всё в полном порядке.
В конце концов, упомянутая студентка, как выяснилось, настолько не парилась и в других ситуациях, что у нее сильно снизились оценки. Но я тогда выучил кое-что ценное для себя.
Эта книга о заботе и волнениях, так что мое столкновение со студенткой абсолютно в тему. Как я уже говорил, каждый день на нас сыплются экологические фактоиды, причем экологические проблемы на самом деле неотложны, и, если вы начнете серьезно о них задумываться, у вас может начаться настоящая депрессия, и в итоге вы свернетесь в позе зародыша или просто ощетинитесь, как еж, на всех в отрицании. Поэтому я написал книгу с установкой, которая несколько напоминает принцип «МЕНЬШЕ ПАРЬСЯ», и я надеюсь, что вы тоже будете МЕНЬШЕ ПАРИТЬСЯ. Пожалуйста, не пытайтесь изжить в себе безразличие. Напротив, почему бы не изучить его, что мы и делаем? Может получиться так, что в его туманных царствах обнаружится эластичный шар онемения. Онемение — это чувство защиты самого себя от шока. Будьте с ним осторожны. И опять же, не пытайтесь содрать резину или проткнуть ее ножницами, чтобы посмотреть, что там внутри. Попробуйте, напротив, изучить его извне. Ясно ведь, что многие объекты точно такие же: например, нет способа залезть в черную дыру, чтобы поизучать ее и пожить внутри нее, не говоря уже о том, чтобы вернуться из нее и рассказать другим о том, что вы там нашли. Вам придется изучать разные явления вокруг черной дыры, вплоть до самого горизонта событий, то есть границы, перейдя которую вы просто не сможете вернуться обратно и поведать свою историю.
ОБЪЕКТНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОНТОЛОГИЯ
Я сторонник философского взгляда, известного под названием «объектно ориентированная онтология» (ООО), которая утверждает, что любая вещь во многих отношениях напоминает черную дыру: резиновый шар, эмоция, высказывание об эмоции, идея о высказывании, звук высказывания, когда оно произносится компьютером, стеклянный экран компьютера, пляж, на котором был добыт песок, из которого сделали экран, океанские волны, кристаллы соли, киты, медузы и кораллы. Вам приходится изучать феномены, испускаемые такими вещами, — отсюда философский термин «феноменология», — поскольку к ним самим вы никогда не пробьетесь. Ни один режим доступа в этом смысле не сработает: мышление, рассечение ножницами, поедание, игнорирование, написание стихотворения, переползание (если вы муха), удар ногой (если вы футболист), пожирание (если вы собака), излучение (если вы гамма-луч).
ООО впервые была сформулирована американским философом Грэмом Харманом, который рассуждал о том, как на самом деле устроена философия Мартина Хайдеггера (неважно, что сказал бы об этом сам Хайдеггер). ООО утверждает, что нельзя получить доступ ни к одной вещи в ее целостности(3). Под доступом тут подразумевается любой способ схватывания вещи: касание вещи, размышление о ней, ее лизание, написание с нее картины, ее поедание, построение на ней гнезда, ее распыление на мельчайшие части… Также ООО утверждает, что мысль — не единственный режим доступа, что мысль даже не является высшим режимом доступа, поскольку в действительности нет никакого высшего режима доступа. Два этих принципа дают нам мир, в котором антропоцентризм невозможен, поскольку мысль долгое время была теснейшим образом связана с человеком и поскольку люди
были, по сути, единственными, кому дозволялось иметь осмысленный доступ к другим вещам. ООО предлагает нам чудесный мир теней и закоулков, мир, в котором вещи никогда не могут быть целиком и полностью просвечены ультрафиолетом мысли, мир, в котором быть барсуком, деловито обнюхивающим то, на что вы, человек, задумчиво взираете, — это столь же законный способ доступа к вещам, что и у вас.
Я думаю, что объектно ориентированная онтология действительно полезна эпохе, в которой мы со временем узнали об экологии намного больше. Полезна, в частности, потому, что она не представляет мышление, и особенно человеческое мышление, особым режимом доступа, который бы действительно постигал, что представляет собой та или иная вещь. ООО пытается избавиться от антропоцентризма, утверждающего, что люди стоят в центре смысла и власти (как и всего остального). Такой подход может пригодиться в эпоху, когда нам нужно по крайней мере признать значение других форм жизни.
Возможно, наше безразличие — тот факт, что нас не слишком (или не всегда) волнуют всякие экологические штуки (или мы просто не хотим из-за них волноваться), — что-то вроде уникальной формы жизни, существующей в нашей головах и не платящей арендной платы. Не исключено, что мы сможем получить намного больше информации об экологии и экологической политике, искусстве, философии и культуре, если будем изучать эту туманную область, содержащую в себе тефлоновый шар онемения, но не пытаясь его вскрыть. Возможно, у нас уже есть всё, что нужно, чтобы справиться с экологической эпохой. Не исключено, что реальная проблема всегда была в том, что мы постоянно говорим себе, будто нам нужен совершенно новый способ смотреть на вещи, ведь экологическая эпоха — что-то вроде апокалипсиса, с наступлением которого знакомый нам мир выворачивается наизнанку. Но действительно ли экологична эта надежда на новый способ смотреть на вещи — или перед нами просто еще один ретвит монотеизма агрокультурной эпохи, которая, собственно, и довела нас до той стадии, на которой мы сегодня находимся? И если агрокультура отчасти ответственна за глобальное потепление и массовое вымирание (а это так), может быть, лучше не использовать монотеистические координаты или монотеистическую терминологию? Быть может, лучше покончить с проповедями, шеймингом и виной, которые на протяжении всей агрокультурной эпохи были неотъемлемой частью теистического подхода к жизни?
Всё это просто вопросы. Пожалуйста, не надо из-за них чересчур напрягаться. Когда вы будете читать данную книгу, обращайте внимание на малейшее чувство вины, которое может у вас возникнуть. В конце концов, вина всегда существует на уровне индивидов. Однако индивиды ни в коем смысле не виновны в глобальном потеплении. Это и в самом деле так: вы можете легко найти для себя оправдание, поскольку то обстоятельство, что вы ежедневно заводите двигатель внутреннего сгорания в своем автомобиле, в плане статистики для глобального потепления не имеет никакого значения. Парадокс в том, что, если мы расширим масштаб подобных действий и включим в рассмотрение каждый двигатель автомобиля, когда-либо заведенный с самого момента изобретения двигателя внутреннего сгорания как такового, причиной глобального потепления окажутся именно люди. Конечно, большие корпорации способны оказывать такое воздействие. Однако воздействие их сотрудников является, если говорить в тех же терминах, статистически ничтожным. Через тысячи лет ничто из того, что каким-то образом связано с вами, не будет иметь никакого значения. Но то, что вы сделали, будет иметь огромные последствия(4). Таков парадокс экологической эпохи. И именно по этому действие, нацеленное на глобальное потепление, должно быть массовым и коллективным.
Но что это такое — глобальное потепление? Правильный ответ: массовое вымирание. Оно станет темой нашей следующей главы.