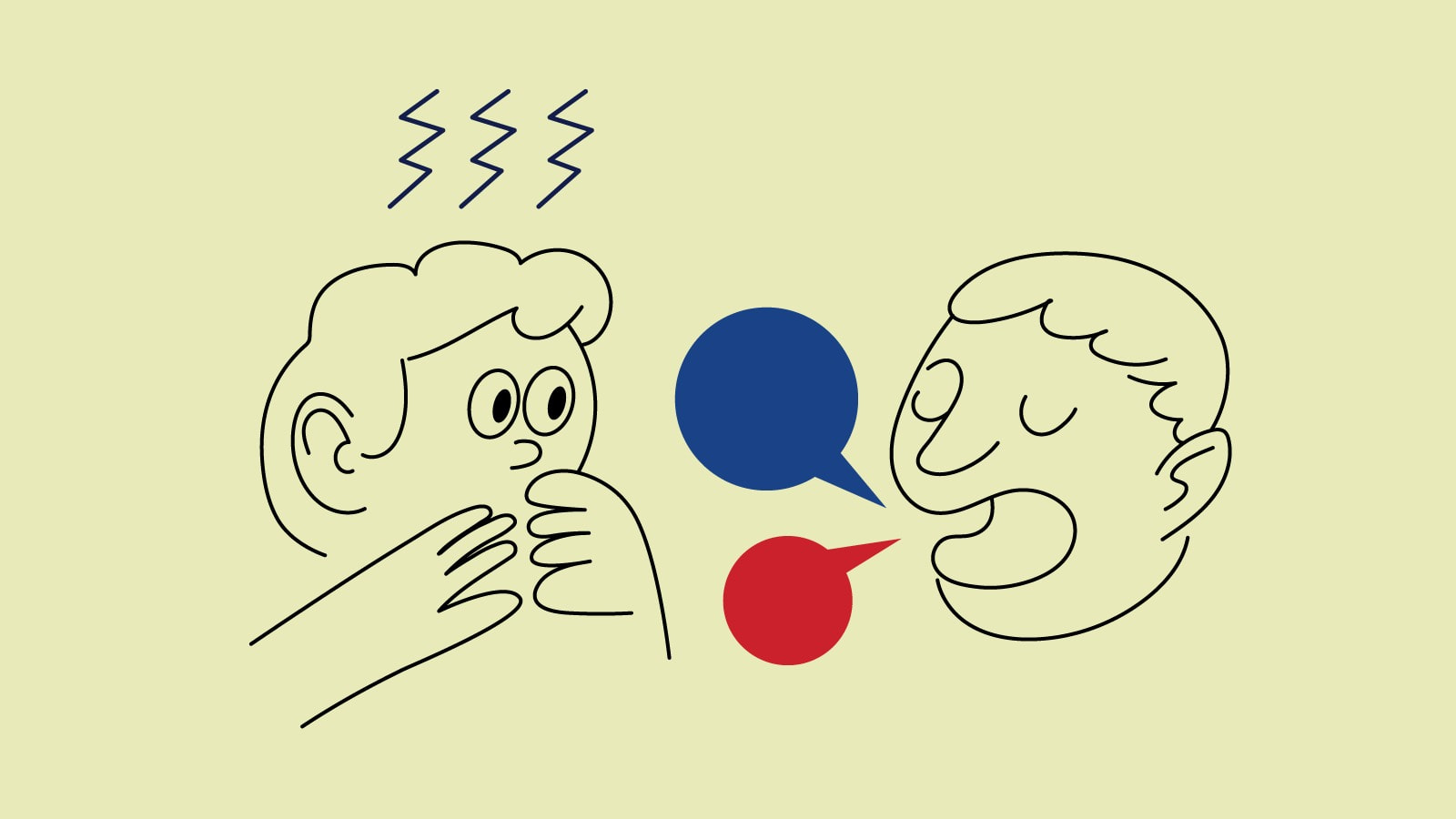Гала Узрютова «Золотое сечение. Несовершенные пропорции самоизоляции»

Самоизоляцию я ощутила еще в детстве, правда тогда она была языковой. Воспитатель накричала на меня в детском саду, и я перестала разговаривать со всеми, кроме семьи. В статьях психологов это называется избирательной немотой, а на моем детском языке оно стало просто страхом говорения, который длился несколько лет. Вынужденная языковая изоляция не давала сказать и слова, делала тебя человеком письменной речи, пока все вели жизнь человека речи устной.
Молчит, когда ее спрашивают на уроке.
Отказалась идти к зубному и заплакала.
Приглашаем родителей в школу, так как ваша дочь не разговаривает с одноклассниками.
Отказывается садиться за парту с мальчиком.
Это только часть записей учителей в моем школьном дневнике в тот период. Сказать хоть слово было сложно чисто физически — во рту как будто поселилось что-то невидимое, которое изолировало язык и глотало твои слова, пока они не успели вырваться наружу. Некоторые думали, что я не говорю с людьми из вредности, но говорить было невозможно физически. Это похоже на то, как во сне ты пытаешься кричать, но не можешь. Как будто языка у тебя вообще нет. В кино это смешно выглядит, но на самом деле это страшно. Иногда казалось, что мой язык — это туман, и вместо звука изо рта выходит только густой пар.

Сейчас социальную изоляцию облегчает интернет, но тогда его не было, и меня от изоляции языковой спасали простые тетради, в которых разворачивалась другая — письменная жизнь. Потому что в обычную жизнь — где все говорят, а не молчат — человека без языка не принимали. Дискриминация молчащих в пользу говорящих. Требуется коммуникабельный специалист с опытом работы. И в этих тетрадях я выписывала до мелочей все происходившее и не-происходившее — то, что могло произойти, если бы я снова заговорила. Воссоздавала то, что должно быть. Воссоздавала золотое сечение и симметрию жизни, как сегодня мужчины в масках, встретившись на улице, все еще здороваются за руки. Чтобы хотя бы этим поддержать ритм живого, течение, которое не должно останавливаться, даже если сверху река замерзла. Изоляция и впрямь похожа на туман, который заполнил расстояния между людьми, да так, что и вблизи никого не разглядеть за этими масками. Видишь только себя.

Ребенком я привыкла к той языковой изоляции. Мне даже казалось, что большинство произносимых людьми текстов совершенно лишние, что можно обойтись без них. Как будто люди не экономят речь, как мы не экономим воду, если забываем выключить кран, пока чистим зубы. Как будто вся речь способна вытечь изо рта, и уже потом нечем будет говорить.
— Я экономлю маски, — рассказывает мне Анна. — В аптеках нет, поэтому, когда иду по улице с собакой, надеваю маску, которую сшила из простыни. А когда в магазин хожу, надеваю те, что в аптеке купила. Они все-таки надежнее защищают. По крайней мере, мне так спокойнее.
Через этот ритуал она тоже выстраивает свое золотое сечение. Подгоняет изъяны — неровные части пазла — так, чтобы они встали в прямую линию, в которой совершенные ровные частицы с идеальными ямками и выпуклостями, подходящими друг другу, спасают картину в целом. Я не боюсь тебя, мой язык, даже когда ты молчишь. Даже когда ты спрятан под маской.

При сканировании продуктов в супермаркете кассир, уже почти завершив расчет, дошла до сидра, посмотрела на меня внимательно и попросила не паспорт показать, а снять маску. Это новая реальность, в которой лицо становится паспортом, еще раз напоминает: в любой ситуации человек продолжает собирать тот самый пазл, даже если не хватает каких-то кусков, пусть и очень важных, самых важных. Кассир рассматривает мое лицо, решает, юна я или молода, юна или молода. Кажется, это длится несколько минут, хотя прошло секунды три. Я смотрю на ее лицо в маске и удивляюсь яркости глаз. С чего я решила, что они должны потускнеть оттого, что весь день смотрят на другие глаза, выглядывающие поверх марли?

— Мне даже по работе почти не звонят, — говорит приятель Андрей. — Через интернет в основном решаем. Или мессенджеры. Такое ощущение, что люди боятся передачи вируса через разговор по телефону. Даже заряжать стал реже.
— А я могу долго не говорить, — отвечаю.
— Нет, я тоже, конечно, могу. Но привык как-то. Отец в детстве, когда наказывал, молчал подолгу, ничего мне не говорил. Не по себе было.
— Ко мне в детстве все подходили и спрашивали, почему я такая грустная. То есть людям казалось: если я молчу, значит, я грустная. Хотя грустно мне не было.
— Вот видишь, просто люди привыкли говорить, это уже как само собой разумеющееся. Люди воспринимают речь как нечто привычное, нормальное, а молчание — как нарушение этого обычного, повседневного. Поэтому им так сложно сейчас держать социальную дистанцию.
Чтобы сказать что-то друг другу, нужно подойти ближе, иначе придется кричать.

В детстве мне казалось, если я заговорю, меня разорвет на части, такой был страх. Тогда в садике я просто захотела есть и потянулась за куском хлеба раньше обеда, за что и получила. До этого я была очень общительной, вообще я очень рано научилась говорить и читать. Я подходила к людям на улице и разговаривала с ними, мне не было страшно. Очень хотела пойти в детский сад и все время спрашивала родителей, когда уже меня туда отведут. Отвели, а вскоре на меня наорала воспитатель, и я перестала говорить. Нарушение этой звуковой изоляции представлялось мне чем-то невозможным, и я продолжала записывать все в тетрадь.
— Я продолжаю заниматься, не в зале, конечно, а дома. Стелю коврик и пошла, — рассказывает Анна дальше. — Все равно надо продолжать, к лету готовиться. Летом же все закончится? Наверное. Жру много, пока дома сижу. Уже плюс три килограмма. Пятьдесят шесть! Каждый день взвешиваюсь. Нет, сначала прибавилось килограмма два. Потом еще один. Но я стала чаще с собакой гулять, велотренажер. Я хочу пятьдесят три килограмма, как раньше, до карантина. У меня всегда было пятьдесят три.

Первое, что замечаешь в городе, когда выходишь за продуктами, — как стало тихо. Город молчит или говорит шепотом. Иногда мычат качели, грохают грузовики. Дружинников замечаешь не сразу, только когда они разворачиваются той рукой, на которой значатся красные повязки. Чей-то голос в громкоговорителе предупреждает: оставайтесь дома. Возвращаешься домой, остаешься дома и слышишь, как сосед долго и громко сверлит, закликает дрелью прежнюю громкую жизнь.
— Я телевизор, например, вообще не смотрю. Теперь включаю, и он весь день работает. Я даже не смотрю, сижу в компе чего-то делаю, а он бубнит что-то там. А то тихо как-то, — вспоминаю слова Андрея.
К дрели сосед добавляет еще и молоток.

— А мне нравится изоляция. Не знаю, как будет через месяц, но сейчас нравится, — говорит Петр. — Потому что мне не на что отвлечься. Нет, есть, конечно, интернет, книги, фильмы, но через неделю это все уже надоело. Они уже не так интересны, как я сам в этих новых условиях. И я не хочу от себя отвлекаться. Иногда я просто лежу часами и насильно заставляю себя ни на что не отвлекаться. Это очень сложно. А потом становится стыдно, что ты хочешь от себя отвлечься, от своей жизни. Кто ты тогда вообще такой, если самому от себя тошно? Сначала мне было страшно, но потом я ощутил какое-то спокойствие. Ведь на самом деле так и есть — вот мир, вот я, и надо что-то с этим делать. Надо как-то адаптироваться. Вот ты сидишь в своей пещере, а все остальное — это чужие пещеры, а ты сидишь в своей, рисуешь свою наскальную живопись и ведешь свое летосчисление. И тут понимаешь: сколько людей, столько и реальностей. Честно говоря, это и правда жутко. Я очень четко эту жуть ощутил, когда в детстве понял, что у каждого своя жизнь, что моя жизнь не главная. Главная она только для меня, но ведь у каждого своя главная жизнь.
Вспоминаю, когда я приняла, что стала языковым изгоем, то изменила свое отношение ко всему этому. Мне стала нравиться моя молчаливая пещера. Вынужденная изоляция превратилась в добровольную языковую самоизоляцию. Появилось какое-то четкое ощущение того, что внутренняя письменная речь мне ближе, чем устная. У нее другой — ровный — языковой ландшафт, а я человек равнины. И в этой молчаливой равнине напряжения чувствовалось даже больше, чем в языковых горах. Оно текло под языком, становилось сильнее, гуще, вулканилось, пока со временем не переходило в текст.

Соблюдайте дистанцию в полтора метра, напоминает объявление в аптеке. Красные линии на полу еще не прошарканы, блестят. С детства продолжаю соблюдать дистанцию языковую и не говорю много, от долгого общения устаю и изолирую себя. От своего отражения в зеркале самоизолироваться не получится.
— Я встал перед зеркалом и стал себя подробно рассматривать. И я заметил: когда у меня не было времени, и я перед работой смотрел на себя по утрам мельком в зеркало, видел не то, что я вижу сейчас, — продолжает Петр. — То есть я видел не себя, а свое представление о себе, о своем лице. А теперь на меня обрушилось мое настоящее лицо. И оно не такое уж молодое. Видимо, еще в студенчестве я просто запомнил, как выглядит мое молодое лицо, и когда смотрелся в зеркало, видел не взрослеющее лицо, а то — молодое — лицо, студенческое лицо, которое я когда-то запомнил и потом воспроизводил уже автоматически. Я даже отошел от зеркала, когда осознал это, было неприятно. Потом вернулся и стал запоминать свое новое лицо, такое, какое оно есть сейчас. По вечерам я смотрю на пещеры в доме напротив. Там всегда горят почти все окна, но есть несколько квартир, в которых рано тушат свет. Что они делают? Спят? Теперь им не нужно ходить на работу, и они решили наконец-то выспаться? И сколько из них захотят вернуться в офисы после всего этого? Еще заметил, что днем люди в окнах дома напротив часто моют окна.
Чтобы тебя лучше видеть, чтобы меня лучше видеть, чтобы все это лучше видеть.

Из окна вижу, как во двор выходит старушка в синих резиновых перчатках и маске. Она садится за деревянный стол, достает газету и начинает читать. Поверх искусственной шубы накинуто старое расстегнутое пальто, которым она прикрывается от солнца. На лавке под деревом в центре дворе сидят три женщины в масках, отодвинувшись друг от друга. Звонит Анна, рассказывает, что заказала маски в интернете, отказалась от хлеба, сыра и весит уже пятьдесят пять килограммов. Еще немного, и весы снова покажут пятьдесят три. Я возвращаюсь к написанию новой книги. Дрель и молоток замолкли, гремит моя клавиатура.

Автор о себе
Российский поэт, прозаик, драматург, автор фотопроектов. Родилась в 1983 году в Ульяновске. Окончила Ульяновский государственный университет, факультет культуры и искусства. Автор книги стихотворений «Обернулся, а там — лес» («Русский Гулливер», 2015), сборника прозы «Снег, который я пропустил» (Bookscriptor, 2018), книги «Страна Саша» («КомпасГид», 2019). Тексты переводились на немецкий, английский, словенский, латышский, литовский, итальянский языки. Автор концепции, рассматривающей поэзию как животный инстинкт.
Лауреат специальной поэтической премии проекта «Русский Гулливер» (2014), поэтической премии им. Н. Н. Благова (2016), литературной премии Bookscriptor (2018), конкурса Европейской сети театрального перевода Eurodram (2018), Российской-итальянской литературной премии «Радуга» (2019), дипломант литературной премии Дмитрия Горчева (2017), стипендиат программы Гёте-Института «Культура в движении» (2019). Работала в международных писательских резиденциях в Словении и Латвии, участвовала в международных литературных фестивалях, в Германо-российском проекте «VERSschmuggel — Поэтическая диверсия» (2015), Германо-российском литературно-фотографическом проекте Shots/Stories и др.
В тексте использованы фотографии из серии Галы и Юлии Узрютовых «Fog Poetry (туман на высоте 1170 метров, Роза Плато, апрель 2019 года)».